
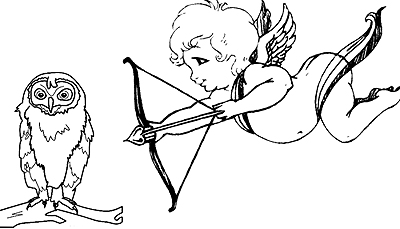
Владимир Васильевич Миронов (род. 1953) – современный русский философ, специалист в области философии культуры и онтологии. Доктор философских наук, проректор МГУ им. М. В. Ломоносова, декан философского факультета, заведующий кафедрой онтологии и теории познания. Председатель экспертного Совета ВАК по философии, социологии и культурологии, председатель докторского диссертационного Совета по специальности «Онтология и теория познания», «Философия науки и техники» при МГУ, председатель учебно-методического объединения по философии и политологии, вице-президент философского общества РФ. Автор таких книг, как «Образы науки в современной культуре и философии» (М., 1997), «Философия и метаморфозы культуры» (М., 2005), «Университетские лекции по метафизике» (М., 2005, в соавторстве). «В работах Миронова отстаивается тезис о том, что философия является искусством интерпретации, выступая как герменевтическая деятельность. Поскольку в философии интерпретация осуществляется на вторичном или на ещё более удалённом от реальности, «n-уровне», то она выступает как «интерпретация интерпретаций», как творческая деятельность, приумножающая смыслы» [1]. Наша беседа с Владимиром Васильевичем состоялась в рамках проекта «Современная русская философия».
– Владимир Васильевич, каких современных российских философов Вы могли бы назвать?
– Я не большой сторонник выделения философии по национальному признаку. Считаю, что философия в России возникла достаточно поздно, являясь частью общего исторического процесса развития философии в мире. В отличие от Зеньковского, который ведёт её историю чуть ли не от юродивых, думаю, что не существует особого феномена русской философии, и она вполне вписывается в общеисторический философский процесс. Конечно, русская философия имеет свои особенности, одной из которых является её связь с литературой и публицистикой. В моём утверждении нет никакого самоуничижения, ибо в каждой культуре есть свои отличия и особенности. Величайшая часть российской культуры – её литература, и то, что философия в России была связана с ней, лишь придает ей собственное лицо. После Гегеля в европейской традиции вообще вряд ли удалось создать столь же мощную теоретическую философскую систему. В России философия реально возникает по следам Гегеля, а потому неизбежно в концептуальном смысле разрабатывает те же идеи, пусть и с некоторой спецификой. Слово «современность» в термине «современная философия» – если он указывает только на временную принадлежность философов, – тривиален и не заслуживает обсуждения.
– Согласен с вами, что этот термин весьма спорен и включает в себя по преимуществу философию последних 30-ти лет. Однако термин «история современной философии» ещё более парадоксален, но, как кажется, имеет важный прогностический концепт..?
– Контекст современности философии я бы поставил под радикальное вопрошание. Для меня философия вневременна. Философия, в широком значении слова, – смысловое, вневременное пространство, в котором все современны. Это пространство задано нам возможностью вести диалог как с ныне живущими философами, так и с давно умершими. Поэтому в философии Платон так же современен или более современен, чем какой-нибудь «современный» философ с соседней кафедры. Мне кажется, несколько наивно выделять лидеров в современной русской философии, поскольку сразу возникает вопрос о селекционном признаке: скандальность, популярность, раскрученность. Названные признаки внешние по отношению к сути философии. Что же касается глубины философских размышлений, простите за тавтологичность, их философичности и культурной значимости, то именно из современности это сделать невозможно. Лет через 100-150 в русской культуре, может быть, останется несколько имён из нашего времени, а может быть, ни одного, и никакой трагедии в этом нет. Представьте себе сегодня философа, живущего по образу и подобию Канта (а такие, наверняка, есть)… Но кто же о нём знает? В истории остаются именно Канты, тогда как огромное количество философствующих подвергается забвению, хотя в своё время они могли быть популярнее новоявленных Кантов. Конечно, есть имена наподобие Валерия Подороги, популярность которого – часть хорошей институциализации, однако вряд ли он сам к этому сознательно стремился.
– Институциализация Подороги обеспечивается наличием собственной школы – так называемых «подорожников»…
– Насчёт школы я бы поспорил. Что означает школа? Это некий институт последователей или сторонников концепции, которые таковыми сами себя объявили, как правило, после смерти той или иной фигуры. Философским адептам не хватает сил для самостоятельного философского мышления, что вынуждает их записываться в ученики к мэтрам. Не думаю, что после античности были серьёзные философские школы. Более того, именно «последователи» чаще всего искажают идеи оригинального мыслителя, опираясь на значимость имени. Для самого философа, за которым «следуют», – это безразлично, его концепция – продукт самобытного творчества. Неогегельянство – это уже не Гегель, как и неокантианство – это уже не Кант, а социал-дарвинизм или неофрейдизм – вообще трудно назвать концепциями Дарвина и Фрейда. Я бы так сказал, перефразируя библейскую притчу: «бойся последователей, тебя развивающих». Нередко «школы» создаются искусственно, как было в советское время, когда кто-то из философов назначался «отцом школы», и за ним выстраивалась цепочка из аспирантов. Я очень скептически к этому отношусь. Философия – свободное мышление, которое вовсе не обязательно к чему-то и кому-то привязывать. Она носит принципиально индивидуальный характер. Корпоративное философствование – нечто странное даже для самой философии.
– А кого же ждать?.. Ведь соответствующую философско-историческую выборку будут делать конкретные люди – историки философии. Их предпочтения лягут в основу периодизации и систематизации русской философии.
– История сама расставит всё по своим местам. Причём сделает это не спонтанно. Недавно я пересматривал книгу Рэндалла Коллинза по философии социологии, в которой он высказывает любопытную вещь относительно известности тех или иных философов во времена их жизни. В чём суть его концепции? В том, что история философии выстраивается для будущих поколений через десятилетия и даже века после смерти конкретных мыслителей. Есть философы, которых почти не знали их современники, но которых по тем или иным причинам «выбросили» на поверхность будущие историки философии. Многих философов открывают довольно поздно и, начиная обильно цитировать, переносят их влияние и значимость на ту эпоху, в которой они жили, как будто бы они всегда были так известны. Вопрошу ещё раз. Многие ли из современников знали о Гегеле или Канте, тем более считали их выдающимися философами? Насколько я помню, у Гегеля были проблемы с посещением его лекций. Так и сегодня. Я не уверен, что те люди, которые сегодня популярны, окажутся в истории. Может быть, я скажу кощунственную вещь, но у нас нет гарантии, что, например, рядом с Пушкиным не было поэта сопоставимого масштаба. История остановила свой выбор на Пушкине, но история – это лишь один реализованный вариант развития. То же самое и в науке. Хорошо известно, что у Ньютона в научном плане были конкуренты, но история их не приняла (правда, сам Ньютон приложил к этому усилия). Философия создаётся сегодня, развивается через современные размышления, но история философии творится завтра. Ученики и историки философии будут интерпретировать тексты своих современников, и их собственная история весьма непредсказуема.
Ещё один пример. Крупнейшего философа XVIII века Христиана Вольфа в курсе истории зарубежной философии мы практически не изучаем. Если же вы возьмёте философов XVIII века, то имя Вольфа будет одним из самых значимых, а его книги – настольными для нескольких поколений философов. И ещё одни аспект. У Льва Гумилёва есть термин «предтеча» относительно людей, которые готовят почву для дальнейших исторических преобразований и без которых последние невозможны. О них в истории забывают. Их затмевают фигуры «исполнителей». Философия – не исключение. Новое в философии может готовиться годами и столетиями. Предтечи в философии могут проделать огромную систематическую работу, подготовить почву для ярких философских решений и пересмотров, но сами практически исчезнуть из истории. Вместо предтеч останутся люди, которые исторически и волею случая оказались на вершине этих поворотов. Внутри самой истории философии можно делать настоящие открытия, особенно – в XIX веке, от которого сохранилось много текстов. Достаточно покопаться в библиотеке, и вы обнаружите массу произведений, упущенных в своё время.
– Не кажется ли вам, что так называемая альтернативная история философии зачастую состоит из второстепенных представителей, представляя собой свалку тупиковых и утопических идей..?
– Есть официальная история, зафиксированная и конвенционально принимаемая нами как единственная, а есть история как прошедшие события, как ушедшая действительность, – как то, что было. Вторая история гораздо объёмнее. Но мы склонны считать историей только то, что вписано в соответствующую традицию. Любимое выражение историков – в истории нет сослагательного наклонения. Для философа и философии это совсем не так или не должно быть так. Философия в качестве особого типа мышления, в отличие от созданной истории философии, находится вне времени, а потому её «второстепенные» представители могут быть признаны гораздо глубже «первостепенных», которые стали таковыми по самым разным причинам. Философия в её истории – это не свалка идей, а совокупность отрефлексированных смыслов, большая часть из которых осталась невостребованной.
Приведу пример из иной области. Сейчас идёт «псевдомодернизация» образования и науки. Модным становится слово «проект». Говорится о том, что финансироваться будут только конкретные проекты. Но при этом финансирование осуществляется сегодня. Как оценить научность проекта? Его практической реализацией. Поддерживаются, таким образом, проекты, дающие в первую очередь быстрые результаты. Но ведь научный проект может быть реализован и через сотню лет. Государство должно осознавать, что наука рискованна и что реализация некого проекта через сотню лет может окупить все нынешние затраты. Более того, лаборатории и институты, которые как иногда внешне работают впустую, на самом деле могут обеспечивать почву для будущих открытий. Точечным финансовым вливанием в науке не всегда можно помочь, она в целом должна поддерживаться обществом. Если мы не будем иметь этих внешне пустых лабораторий, то мы не будем иметь соответствующего фона людей, которые далеки от серьёзных открытий или которые обеспечивают такие открытия. В философии ситуация аналогична. Это единое целое, внутри которого есть и академическая философия, и философия, находящаяся за стенами университетов. Здесь всё необходимо, и все части взаимодополняют и обеспечивают друг друга идеями. Поэтому несколько наивно говорить о том, что истинная философия находится за стенами университетов, или, напротив, о том, что она находится лишь в этих стенах.
Для развития философии необходима широкая и свободная почва, позволяющая философствовать и от уровня этой, прежде всего внутренней свободы, которая, конечно, опосредуется и внешними предпосылками для свободы зависит появление того или иного гения внутри философской мысли. Это не мои собственные размышления. Об этом очень давно и красиво по отношению к античности писал Гегель, которого, к сожалению, читают всё меньше. И чем более философична эта почва, тем более интересными будут и мыслители, взращённые на ней, даже если их нечто не устраивает в организации философского мышления. В любом случае важен фон, который создаётся и академической, и неакадемической философией, однако это вовсе не означает, что таких ярких фигур нет внутри самой академической и факультетской философии.
– Пожалуйста, назовите ещё имена.
– Если брать философию культуры, то я бы назвал Александра Львовича Доброхотова. По натуре он человек очень мягкий, неагрессивно публичный, может быть, поэтому не так раскручен, но это настоящий философ. Подорогу я уже упоминал. Бесспорно, Фёдор Иванович Гиренок, ажиотаж вокруг которого возник не по его вине. Алексей Михайлович Руткевич. Обязательно нужно упомянуть имена Геннадия Георгиевича Майорова и Карена Хачиковича Момджяна. На мой взгляд, совершенно оригинальным и ярким мыслителем является декан философского факультета Екатеринбургского университета Александр Владимирович Перцев, в работах которого блестяще сочетается теоретичность и публицистика, сложность и простота.
– А среди, условно выражаясь, маргиналов..?
– Не люблю модных слов, ибо мода затмевает реальное содержание. Что значит маргинал? Есть классическое понимание, которое связано с тем, что это человек, находящийся как бы между двумя культурами. По отношению к обществу маргинал – деклассированный элемент, потерявший общественный престиж и т. д. А теперь перечислите в уме тех, кого мы называем маргиналами у нас. Это, как правило, профессора и доценты известных и престижных вузов. В чём проявляется их маргинальность? В наличии некоторых более или менее оригинальных идей? Но это нормальная ситуация в философии, и в принципе не может ничему противостоять, ибо философия слишком богата и в ней, как это ни прискорбно для считающих себя маргиналами, всё уже было. Гиренок вполне институализирован так же, как и Подорога, – так же, как были институализированы и Мамардашвили, и Щедровицкий, – так же, как вполне гармонично вписались в общую систему и постмодернисты разных направлений, занимающие свои профессорские должности в Сорбонне. Если вы хотите, чтобы вас считали маргиналом, сознательно откажитесь от звания профессора, доктора, не учитесь на факультете, не защищайте диссертацию. Если вы маргинал, то откажитесь от всего. Многие же хотят быть и маргиналами и при этом защищать кандидатские и докторские, – по неким, часто ими же критикуемым, правилам получать зарплату за «официальную» работу в качестве профессора. А иногда философа называют маргиналом другие. Всё это игра, симуляция, и пусть она будет, только мы должны понимать её условность внутри философии. Поэтому внутри нашей философии я не могу выделить маргиналов, может быть, Галковский, который со скандалом окончил факультет и для которого сам этот факт является фактором творческой раздражённости по отношению к последнему, а также вообще к философским институтам..?
Другой аспект этой проблемы. Играть легче, чем осваивать знания, поэтому термин «маргинальность» – лишь прикрытие для отсутствия знаний в соответствующей области. Кант обозначал людей, рассуждающих на основе принципиального незнания и нежелания знать, термином «мисологи», противопоставляя их философии, основанной, прежде всего на знании. Такие мисологи или маргиналы данного типа всегда очень критично настроены, но их критичность, по выражению Ю. А. Петрова, происходит от слова «крыть», покрывать, отчего они занимаются не конструктивной критикой, а «крытикой», развешивая направо и налево обвинения. Вряд ли кому-то придёт в голову зайти на кафедру квантовой физики и заявить на основании своей маргинальности, что квантовая физика – лженаука. А вот на философские кафедры «заходят» и даже работаю на них. Не случайно, маргиналы в философии – это люди, которые серьёзно философию не изучали, – пришедшие из филологии или других сопряжённых с философией дисциплин. Им кажется, что они говорят новые вещи, но философы молчат, ибо им это уже давно известно. Это ещё более распаляет пыл маргиналов, и они философствуют и философствуют. А если при этом их понимает наименьшее количество слушающих и читающих (в идеале лишь он сам), то цель достигнута – перед нами настоящий философ-маргинал.
– Георгий Степанович Кнабе?
– Безусловно. Спасибо, что вы напомнили о нём. Кнабе – личность исключительная. Он был одним из тех, кто стал работать на нашей кафедре – кафедре теории и истории мировой культуры. Георгий Степанович – человек на 120% немецкого склада и очень требователен к организации процесса преподавания. Я с ним много общался. Несмотря на то, что он человек уже преклонного возраста, его книги создают обратное представление – молодого человека, который, например, оценивает роль «Биттлз», исследует проблему повседневности, агрессивность послевоенной культуры – подростковой в своей сути. Кнабе – типичный образец классического профессора.
– Что можно сказать о конкурентоспособности современной русской философии? Легко ли её будет перевести на иностранные языки и пропагандировать за рубежом?
– Вопрос перевода не главный и, конечно, решаемый. Не надо демонизировать трудности перевода как с русского, так и на русский язык. Каждый язык труден для перевода, но, тем не менее, мы переводим. Вопрос идёт о взаимопонимании и уважении к своему языку и об отношении к нему в мире. Язык уважают в другой стране, когда уважают саму страну. В 1950-1960-е годы конференции по физике всегда включали русский язык в качестве рабочего, и не мы говорили по-английски, а английские учёные учили русский, чтобы говорить на языке страны, в которой физика или математика достигла таких вершин. Если мы будем отказываться говорить на своём языке, то в мире его забудут. А сейчас на многих конференциях, даже когда русский язык является рабочим, наши учёные предпочитают говорить на английском (хотя предусмотрен перевод), не думаю, что это правильно.
Теперь о взаимопонимании. В последнее время к нам на факультет приезжало много философов, среди них такие известные, как Альберт, Апель, Кристева и другие. Я несколько раз встречался с Хабермасом, дважды с Гадамером. На этих встречах выясняется любопытная вещь, что чаще всего на вопрос о том, кого из наших русских философов они знают, следует почти одинаковый ответ – Достоевский и Толстой. Иногда к этому добавляет ещё одно-два имени, но именно эти два представителя русской литературы позиционируются и как русские философы. И это не случайно, ибо, как я уже говорил, русская философия, особенно на стадии своего формирования, органично вплеталась в русскую литературу, а собственно философские концепции были либо вторичны, либо в силу тех или иных обстоятельств непонятны или неизвестны в Европе. С другой стороны, это связано и с самой системой преподавания истории философии в Европе, где студент может очень хорошо знать работы одного-двух философов или какую-то идейную группу, но не слишком чётко представлять себе историю философии как таковую. В этом плане, как мне кажется, наша система преподавания истории философии имеет преимущество, так как основана на полноте общефилософской исторической картины.
Поэтому, если использовать термин «конкурентность», можно сказать, что наша философия конкурентна по реализации философских идей и ничем не уступает западным образцам, но, конечно, отстаёт в распространённости или, если хотите, – в собственной раскрутке, чему, безусловно, способствует и понижение интереса к русскому языку, а значит и к русской культуре. Думаю, что простой перевод русских философских текстов на другие языки вряд ли может здесь особо помочь, ибо в этом случае, добиваясь понимания на Западе, философы будут склонны, что часто и происходит, просто подделываться под тенденции западной философии или имитировать её. Серьёзного разрыва между западной философией и русской нет. Думаю, что для философа, с позиции сущности самой философии, безразлично, насколько он распространён и популярен. Очень многие культуры неизвестны другим, даже соседним. Это нормально. Культура выступает достаточно замкнутым, по выражению Лотмана, локальным образованием, и именно это обеспечивает диалог культур. Если бы всё было понятно друг о друге, то диалог не состоялся бы.
– Из постсоветских философов на Западе знают от силы трёх-четырёх, включая словенца Жижека, который пишет по-английски, и двух наших соотечественников – Бориса Гройса, который давно живёт в Германии, и Михаила Рыклина, больше печатающегося в Германии и во Франции, чем в России. Очевидно, что нам крайне не хватает государственной поддержки в продвижении философской литературы за рубеж, аналогичной той, которую проводит Министерство иностранных дел Франции..?
– Когда я встречался с уже бывшим послом Германии в России, то упрекал его в том, что они не берут пример с Франции. Кстати сказать, и у нас на факультете самые тесные связи именно с французами. Вы правы – французы пропагандируют свой язык, в отличие от той же немецкой культуры, где обратная ситуация. Комплекс вины за фашизм порой доходил у них до таких парадоксах, что немецкие философы отказывались говорить на немецком языке даже на тех конгрессах, на которых обсуждались проблемы самой немецкой философии. Сейчас наш факультет будет разрабатывать программу по переводу отечественных философов на иностранные языки. При проведении международных конференций мы планируем выпускать материалы на рабочих языках.
– Почему на философском факультете отсутствует преемственность в преподавании русской философии? Обычно история русской философии заканчивается на «серебряном веке» и чуть-чуть захватывает философию русского зарубежья. А где же курсы по советской, позднесоветской и постсоветской философии?
– На самом деле это не совсем так. Увлечённость «серебряным веком» или иными философскими традициями, которые на десятилетия были отторгнуты от философского изучения, понятны. Это как бы второе открытие. А вот проблему исследования советской философии вы затронули правильно. Наверное, уже пришло время оценить её развитие без идеологических клише. Никто не мешает сегодня факультетским преподавателям читать курсы по советской или современной русской философии. То, что марксизм подавался как единственно-возможная философия, было ошибочным. Но сам по себе марксизм – одна из крупнейших философских теорий, а фигуре Карла Маркса как социальному философу вообще вряд ли можно кого-либо сопоставить, может быть, лишь Макса Вебера. Кроме того, справедливости ради следует сказать, что идеи того же Маркса преподаются во многих курсах, а некоторые из них, о которых стыдливо не упоминают, фактически во многом на него опираются.
– Хотите сказать, что в преподавании марксизма без идеологических клише нет заинтересованности?
– Я думаю, нет. Концепцию Маркса знают не так уж хорошо. Вы думаете, что в советское время его знали назубок? Ничего подобного. Поскольку марксизм воспринимался как идеологическое клише, это мешало объективному исследованию концепции. Поэтому имя Маркса и его идеи часто произносились как заклинания в том или ином месте. Думаю, что время объективного исследования марксизма наступает именно сегодня, будучи актуально подкреплённой социально-экономической обстановкой в стране. Что касается специалистов по Марксу, то, к сожалению, я знаю по-настоящему только одного из них, который работает у нас на факультете, – Георгия Александровича Багатурия. Есть ещё Виктор Алексеевич Вазюлин, однако у него после крушения советской системы возникли серьёзные обиды, и он замкнулся в круге своих учеников и почитателей. Наверное, неплохо марксизм мог бы прочитать Ричард Иванович Косолапов, который в советское время был не только учёным, но и крупнейшим советским идеологом.
– А помимо марксизма? У кого можно послушать лекции о Зиновьеве, Ильенкове, Мамардашвили, Щедровицком?
– Проблема специальных лекций об этих фигурах пока не стоит и вряд ли когда-нибудь будет поставлена. Слишком мало времени прошло с их смерти, и не думаю, что каждый из названных философов столь значителен, чтобы по ним необходимо было читать отдельные курсы. У нас таковых нет даже по Гегелю или Соловьёву. Есть соответствующие концепции. Они используются. Например, по решению психофизической проблемы на современном уровне нельзя обойти дискуссию между Ильенковым и Дубровским, концепцию Ильенкова об идеальном и т. д. Щедровицкий, безусловно, интересен как автор особого рода философской методологии, но вокруг неё слишком много последующего «философского мусора». Далее я произнесу кощунственную, наверное, для вас, вещь о том, что Мамардашвили интересен как фигура нашей истории, но вряд ли уж он так оригинален, как это пытаются показать его последователи. Для меня Гегель или Кант, Соловьёв или Флоренский во сто крат интереснее и глубже. А. А. Зиновьев – прекрасный человек, как философ внёсший значительный вклад в развитие логики, в том числе и в организацию её преподавания в стране. Его работы последнего периода, как мне кажется, всё же являются философской публицистикой, а социологические термины больше метафоричны, чем наукообразны. С методологической точки зрения, они имеют право на существование, но всё-таки представляют интерес скорее для любителя.
– Может быть, прошло ещё слишком мало времени, чтобы говорить о преподавании советской философии?
– Возможно. Главное же – это попытаться вывести советскую философию из предшествующей традиции, проследить её исходные установки. В своё время я предлагал Владиславу Александровичу Лекторскому взять все номера журнала «Вопросы философии» и издать лучшие статьи из них отдельными книгами. Например, статью Эриха Юрьевича Соловьёва по работе Маркса «18 брюмера Луи-Бонапарта». Её и сегодня можно использовать как методологическую в современной политологии. В журнале вы найдёте прекрасные статьи В. С. Швырёва, П. П. Гайденко и других отечественных философов. Что касается области методологии и философии науки, то в ней мы были настоящими мировыми лидерами, абсолютно не уступая известным западным фигурам – Попперу, Куну, Лакатосу, Фейерабенду. С другой стороны, мы и их меньше знали, но зато это обеспечивало чистоту эксперимента. Иногда возникает даже ностальгическое чувство – взять и почитать хорошие философские работы, а не пропитанные стилистикой постмодернизма тексты ныне живущих авторов.
В советской философии было всё – она не стояла где-то на обочине, на факультете почти на каждой кафедре можно было найти крупного философа и специалиста. Это и давало повод философам от КПСС обвинять наших коллег то в позитивизме, то в увлечении экзистенциализмом, то в буржуазности социальной концепции. Посмотрите периодику тех лет. Философам доставалось, как никаким иным представителям науки. Чего стоил только один упрёк в период застоя о схоластическом теоретизировании!.. Конечно, в этих условиях многим приходилось «уходить» в более нейтральные области исследования и, прежде всего, в философию науки.
– А вы ревнуете к тем временам, когда философский факультет был идеологическим, а в кабинете декана стояла «вертушка»?
– Нет, я не тоскую по тому периоду. Я застал уже время, когда по этой «вертушке» непрерывно звучала какая-то музыка. Как бы это высокопарно ни звучало – всё-таки, мы действительно независимы. Наверное, можно предположить и даже стоит предположить, что не всегда так будет, но пока это именно так. Сегодня я как декан, как заведующий кафедрой, как философ, как профессор, как обычный человек могу читать тот курс, который хочу.
– Почему эмблемой философского факультета является сова (сыч, филин) гегелевской Минервы? Помнится, Ницше отозвался о сове Гегеля как об ужасном чудовище, подброшенном философии намеренно. По сути любой философский факультет может избрать её своим символом, тогда как в философии есть много других зоологических метафор (например, змея познания у Ницше, можно предложить чёрную кошку или Чеширского кота познания).
– Символ змеи затаскан в медицине. Кстати, эмблема совы была предложена на конкурсе бывшим завкафедрой эстетики Яковлевым. Он сам её нарисовал – сова всем понравилась. Теперь все дарят мне сов, причём самых разнообразных.
– Мне кажется, что символ совы связан с клишированным пониманием философии как отстающей от актуальных проблем современности. Ведь, по Гегелю, сова Минервы должна вылетать ночью, чтобы осмысливать произошедшее за день… Многие уповают на возрождение философии в статусе предвидящей опасные последствия тенденций современности.
– Философия не отстаёт, она стоит (если продолжать образ птицы – «парит») над действительностью, дистанцируется от времени, что позволяет делать именно философские выводы, исходящие не из сиюминутных конъюнктурных соображений, а от имени Истины. Как только философ начинает оценивать какие-то современные события, его глубина рассуждений резко падает. Одно из важнейших свойств философии – предупреждение, но одновременное условие – дистанцированность от власти. Философ не может дать развёрнутых рецептов. Философ не тот, кто переделывает мир, а скорее тот, кто его интерпретирует (буквальный перевод термина Маркса, а не объяснение) и предлагает своими интерпретациями воспользоваться, в том числе, может быть, и для его переделки. Как только философия начинает тесно сотрудничать с властью и политикой, она идеологизируется, выполняет политические и идеологические заказы. Мы пережили всё это и хорошо помним, как людей вывозили на дачи писать очередную программу партии. Не хотелось бы, чтобы история обернулась фарсом. Наиболее показательна в этом смысле история философского факультета МГУ. Когда он устраивает власть – его почитают, а когда нет – его пытаются закрыть, причём не обязательно в царские времена. После Великой Отечественной войны открытый вновь философский факультет хотели закрыть, и лишь усилиями декана В. С. Молодцова этого не произошло. Я считаю, что философия в противоположность одиннадцатому тезису Маркса о Фейербахе всё-таки не переделывает мир, а предупреждает его. Будучи умной, власть, напротив, должна быть заинтересованной в наличии интеллектуальной оппозиции, чтобы вести опережающие дискуссии не на улице, а в аудиториях.
Вообще в философию влезают все кому ни попадя – от политиков и академиков до домохозяек, – и указывают, что ей надо делать. Человек может быть крупным физиком, академиком, как, например, Сахаров. Но именно в области физики. Когда же он входит в область социальной теории, то не является внутри неё столь же крупной фигурой. Однако у нас традиционно статус академика от любой науки позволяет вмешиваться в сферу философии, хотя я как философ в сферу незнакомой мне науки никогда не вмешиваюсь. Вот недавно нас критиковали за издание книги под редакцией С. А Лебедева, в которой одну из глав написал, кстати говоря, физик, доктор наук. Речь идёт о торсионных полях. Мой совет спорящим – пожалуйста, разберитесь сначала внутри самой физики, в которой есть последователи данной теории. Причём же здесь философы? Я согласен с тем, что материал о торсионных полях был поспешно вставлен в учебник, потому что в учебниках должен содержаться апробированный материал. Академик-физик или академик-биолог может легко критиковать философию – бросить сакраментальную фразу о том, что за всё в стране были виноваты философы и что философия сегодня не даёт нам как на конвейере ни Кантов, ни Гегелей. Кстати, Гегель хорошо подметил такую позицию – не каждый берётся шить себе сапоги, хотя видит мерку и очертание ноги, но каждый берётся философствовать, потому что у него в голове что-то есть.
– Такая народная философия?
– Да, и переубедить в этом очень трудно уважаемых и умных людей. Ещё одно полное заблуждение состоит в том, что философию часто относят к гуманитарным наукам. Из-за этого парадокса больше всего страдают студенты, которые, идя на философский факультет, думают, что это их спасёт от математики. Философия – не только и не столько гуманитарная наука. Она стоит между ними, опираясь на самые разнообразные средства постижения бытия, от религии до науки, от искусства до права.
– А как же быть с миллевским высказыванием о том, что наука сама себе философия..?
– Позитивистская позиция, идущая от Конта, противоречива. Говоря об этом, они сами позиционируют себя как философы. Человек, отрицающий философию и выстраивающий систему аргументов против неё, уже является философом. В этом неуязвимость философии.
– Но и в то же время порочный круг, из которого трудно выбраться, чтобы оправдать себя как мизософа…
– Согласен.
– Какова дальнейшая история развития философского факультета? Из факультета выделились в самостоятельные факультеты – сначала психологи, а затем социологи. Ждёт ли такая же судьба политологов?
– Гипотетически – да. Политология – вполне сформировавшаяся дисциплина. Стратегически это должно произойти, но для этого должно смениться поколение, а сама политология ещё должна определиться как теоретическая дисциплина. Если политология, действительно, научная теория, то необходимо исследовать её основные структурные теоретические компоненты. Это большая проблема. Теория есть система идеализированных объектов, цель создания которых заключается в исследовании закономерностей в чистом виде и их апробации на практике. Часто же она трактуется как прикладная к действующей политике дисциплина, как политтехнология. Но где же тогда истина? Ведь политтехнологические рецепты работают до тех пор, пока ситуация в политике стабильна. Как только стабильность исчезает, сразу же возникает вопрос об истине и об ответственности политтехнологов за предлагаемые конъюнктурные рецепты. Вопрос об истине является центральной в любой науке. Если политология сегодня может ответить на все эти вопросы, то она стала самостоятельной дисциплиной. Но мне кажется, что пока связь её с философией даёт ей больше пользы, чем вреда. Близость политологии и философии (в отличие от Запада, где эта связь больше с юридическими факультетами) хороша тем, что позволяет перебросить интеллектуальный мостик между философией, философией политики, имеющей давние традиции, к современной политологии. В перспективе может вполне существовать самостоятельный политологический факультет. Кстати, год назад в Санкт-Петербургском университете философский факультет превентивно (чтобы избежать отделения) переименовали в факультет философии и политологии.
– Давайте поговорим о ваших философских интересах. Кого из философов вы считаете своими учителями? Например, вы любите упоминать о Гадамере и Хабермасе.
– Конечно, Георг Гадамер произвёл на меня колоссальное личное впечатление. Я встречался с ним два раза – один раз в 1998 году, а второй – в 2000 году на его столетнем юбилее. Тогда я вручил ему медаль почётного профессора МГУ. Моё понимание философии как наиболее свободной формы интерпретации – от влияния Гадамера. Самому себе трудно давать направление, но я достаточно близок к диалоговой философии. То, что философия не является наукой, хотя один из её векторов направлен именно к ней, – тривиально. Правда, каждый раз эту банальность приходится доказывать заново. Когда говоришь, что она не наука, тебя автоматически зачисляют в разряд антинауки. Я часто полемизирую по этому поводу, когда говорю о системе защиты диссертаций. Защита диссертаций по философии ещё с советских времён ничем не отличается от защиты диссертаций по естественнонаучным дисциплинам. Однако разница между новизной в работе по философии и, например, по биологии – огромная. Философия – особая отрасль, где ненаучные формы познания важны не меньше, чем научные, а новизна носит совершенно иной характер. Часто вполне достаточно новой интерпретации исторического материала. Я выступаю за диалоговый – глаза в глаза, а не зуб за зуб или глаз за глаз – формат философии.
– Не кажется ли вам, что именно в XX веке философия превратилась в гуманитарную дисциплину? В строгую гуманитарную лженауку, которую гуманитарии всех мастей используют по своему усмотрению – что-то заимствуют из философии, а что-то туда сваливают как в помойную кучу?..
– Ещё раз повторю, философия не была и не является только гуманитарной дисциплиной. Но поскольку она и гуманитарная дисциплина, то есть связана с Человеком, с выяснением его целей и предназначения, как говорил Кант, то она в большей степени ответственна за развитие условий человеческого существования и человеческого сообщества. У вас термин «гуманитарный» является синонимом термина «ненаучный», но это не так, хотя, безусловно, такие варианты возможны. Более того, последнее может сознательно культивироваться и поддерживаться обществом. Соответственно и строгость такой лженауки, если её кто-то выстраивает, представляет собой некую имитацию строгости, поскольку всегда существует критерий проверки – Истина. В то же время всё, что угодно, включая любые научные открытия (например, в физике и биологии), может быть использовано и используется, кому как заблагорассудится. Это совсем другая проблема. В одной из своих книг я обозначаю её как проблему попсы в науке и философии.
Преподавание же философии вообще очень сложная деятельность. Например, Гегель – несомненная величина в философии – часть своих лекций читал по Вольфу, чья фигура несравненно менее значительная, но зато систематичная. И вполне вероятно, что для освоения философии студентами это было лучше. Любое научение реализуется через освоение апробированного материала, а не через демонстрацию новейших идей, последнее необходимо чуть позже. Я всегда привожу студентам такой пример: «тройной тулуп» вы можете исполнить на коньках, если научились азам катания как такового, иначе последствия будут плачевны. Преподаватели, особенно только начинающие работать, этого не понимают и заваливают студентов новейшими философскими дискуссиями, что приводит не к освоению знания, а к «парению» между отрывочным знанием и незнанием. В чём парадокс системы образования? Вы не можете давать только вам или кому-то понравившееся, только новейшее, только популярное. А поэтому преподавателя всегда легко критиковать за отсталость и т. д. Своеобразная трагедия преподавателя как раз и заключается в том, что он обязан «наступать на горло собственной песне» и излагать то, что необходимо освоить как школу. Безусловно, что в некоторых случаях это позволяет недобросовестным преподавателям вообще халтурить и сводить всё лишь к учебнику. И тогда появляется опасность превращения философии в упоминаемую вами помойную кучу.
– Как же тогда сегодня преподавать философию?
– Истории философии повезло больше – она идёт за конкретными персоналиями, тогда как перед кафедрами теоретического плана часто возникает проблема выбора литературы, выбора концепции, дабы студент не утонул в массе материала и океане плюрализма. Например, есть некое понимание предмета онтологии в философии. Студент должен его понять и освоить. Но «продвинутые» преподаватели сразу начинают с заявления о том, что онтология нынче в кризисе или же что онтологий множество. А поскольку формулировать определения не модно и нудно, да и простая подстановка определяющей части сразу бы подвергнула сомнению сам термин «множество онтологий», то выдумываются онтология стула, онтология тела, метафизика стола и т. д. Это страшно красиво, необычно, но столь же бессмысленно, хотя такое выдумывание проще, чем усвоение «скучного» материала. На недавних конференциях по этике и эстетике я выступал с докладами об онтологических основаниях этих дисциплин. Чем силён Кант в этом плане? Тем, что он выдвигает свои нравственные императивы не потому, что это хочется ему как Канту, а потому, что он пытается обосновать соответствующее устройство мира. Его категорический императив – часть бытия. Классическая философия пытается выстраивать Абсолют. Для чего он нужен? Он нужен для того, чтобы мы не потонули в плюрализме точек зрения. Обосновывая предельную онтологичность, мы показываем строение мира, которое не зависит от своеволия мнений. Я понимаю слабую сторону этой позиции. В частности, можно подвергнуть сомнению сами основы. Но, тем не менее, такая позиция конструктивна.
Именно из вышесказанного вытекает популярность постмодернизма. И это не упрёк его авторам, а констатация факта имитации последнего на русской почве. Выхватить нечто, фразу, мысль из контекста и упражняться, использую филологические возможности по данному поводу. Поэтому Деррида на несколько порядков выше наших имитаторов Деррида. Имитация постмодернизма на русской почве настолько вторична, что не заслуживает профессионального философского внимания. Например, когда я беру «Мифологии» Барта, то читаю именно текст Ролана Барта. Когда же я беру тексты популярного ныне питерского философа Секацкого, то мне бросается в глаза его вторичность. И таких примеров множество. Лучше уж быть академичным философом и честно исследовать мысли классиков, давать их интерпретации.
Ведь играть в философию очень легко. Приведу пример из области создания афоризмов. Чем нам запоминается афоризм? Конечно, это может быть глубина мысли, схватывание ситуации, описание её остроты. Но зачастую он становится весомым благодаря фамилии автора. Если вы просто скажете «В зимнюю стужу окна должны быть закрыты», это будет скучная констатация факта. Но если вы прочитаете в книге “«В зимнюю стужу окна должны быть закрыты» (Л. Н. Толстой)”, то согласитесь, что последнее воспринимается очень «глубоко». Систематический текст написать гораздо труднее, чем ярко афористичный, ибо в основе лежат разные способы воздействия на читателя. В первом случае мы воздействуем на разум, а во втором, благодаря форме, на восприятие. Конечно, в идеале было бы здорово это совмещать, но это не всегда удаётся.
Для русского менталитета характерно делать выводы даже о том, о чём недостаточно представления. Помнится, Гиренок написал текст о погромах в Париже и разместил его в интернете. Я его спрашиваю: «Фёдя, а ты был в Париже?». Он ответил: «Нет, а зачем?». В этом – типичная позиция русского философа. Человек ни разу не был в Париже, а в его тексте есть какая-то фраза о том, как он бредёт по одной из улиц города. Похожий случай был у меня в беседах с Александром Сергеевичем Панариным. Он противопоставлял отечественное евразийство идеологии единой Европы, на что я ему возражал, что единая Европа – клише, что нет никакой единой Европы и не будет. Есть швед, и есть итальянец. Их менталитеты разнятся больше, чем менталитет русского и итальянца. Я уже не говорю конкретно о Германии, где этническое различие между жителями страны ещё огромнее.
– Как вы думаете, почему у нас в стране отсутствуют публичные философские дискуссии?
– Очень хороший вопрос. Отвечая на него, я затрону два аспекта. Первый связан с определённым вакуумом деятельности того или иного философа. Поэтому критика в его адрес часто может восприниматься болезненно. Другой аспект непосредственно связан с предшествующим советским опытом. Что в этом опыте самое удивительное? То, что в советское время философских дискуссий было на порядок выше. Философский факультет представлял собой постоянно бурлящий котёл мнений. В них принимали участие и студенты, и аспиранты, и преподаватели. С чем это было связано? Первое объяснение банальное – было больше свободного времени. Сейчас я веду кафедру 2 часа. Раньше заседание могло продлиться 5-6 часов. Место работы было вторым домом. Второе объяснение связано с существовавшим дефицитом литературы. Литература дозировалась, и мы все одновременно её читали. Обмен мнениями был на уровне отменного знания текстов. Сегодня всё выглядит по-другому. Книг навалом. Один прочитал Деррида, другой – Барта, третий – не дочитал того же Барта или Деррида. Все перебрасываются готовыми цитатами из наскоро прочитанных текстов. Отсюда – компилятивность и фрагментарность всех возможных дискуссий. Помнится, Гегель, рассуждая о том, как изучать философию, определил царский путь – читать оглавление и два-три отзыва о книге. Тогда в каждом салоне вы будете выглядеть хорошо знающим современную философию.
– Или устраивать дискуссии на основе книги-визитки..?
– Да, текст позволяет равноценно отнестись к его автору. Пока мы дискутируем, мы можем снять часть вещей за счёт симпатий и антипатий, за счёт погружённости в проблемное поле обсуждаемой книги. Текст заставляет нас быть честными, потому что вы в тексте – или правы, или ошибаетесь. Если текст есть – он начинает жить собственной жизнью, независимой от личности автора.
– Работает ли категория диалога в вашей концепции развития философии, которая называется «сциентизм – антисциентизм»?
– Сегодня я уже пересмотрел часть своей концепции. Сухая схема всегда оказывается далека от эмпирического материала. Конкретные философские фигуры всегда богаче. Например, у меня Витгенштейн однозначно отнесён к основоположникам сциентизма. Сегодня я бы уже так не сказал. Поздний Витгенштейн не вмещается в данную схему. На меня очень сильно повлияло то, что последние пять лет я работаю в тесном контакте с представителями точных областей знания. Если ранее я почти автоматически считал, что они представляют собой в основном сциентистский лагерь, а гуманитарии ближе к антисциентизму, то сейчас я думаю по-другому. Среди гуманитариев сциентистов оказывается больше, чем в естественнонаучной среде. С чем это связано? Дело в том, что мировоззренческие установки (а обе противоположности я обозначал именно как мировоззренческие типы) формируются не только на основе профессиональной деятельности, но и тем, что лежит за её пределами. У естественников за этим пределом лежит именно гуманитарная сфера, и они на досуге пишут стихи и музицируют, занимаются свободным творчеством, а у гуманитариев – свободное творчество – часть их профессиональной рефлексии. Не случайно, что барды учились на физических факультетах. Тем не менее, диспозиция «сциентизм – антисциентизм» существует, но деление здесь более сложное и не всегда напрямую связано со сферой профессиональной деятельности.
– Вы будете уточнять эту диспозицию? Что у вас планируется в будущем?
– Несомненно, буду. Я хочу написать книгу на тему «Культура и коммуникация», чтобы в широком разрезе посмотреть, какое влияние оказывают современные средства коммуникации на культуру.
– Согласны ли вы с тезисом о том, что философия по своей сути является антикультурной?
– Надо уточнить, что вы понимаете под «антикультурой»…
– Переоценку и разрушение старых культурных ценностей, включая и философские.
– В своей книге «Философия и метаморфозы культуры» я ставлю следующий вопрос: «Кто такой философ – хранитель или разрушитель традиции?». Мы знаем огромное количество античных философов, которые были осуждены за отрицание Бога, начиная с Сократа. Философ занимает двоякую позицию. С одной стороны, он безусловный разрушитель традиции, а отсюда – эпатаж общественного мнения, различные философские перформансы (например, бочка Диогена). С другой стороны, философия выполняет функцию сохранения традиции – человеческой мудрости. Столь двойственная ситуация философии разрешается довольно просто – в самой среде философов происходит соответствующее деление. По Кнабе и Лотману, мы имеем дело с внутрикультурной оппозицией. Позиция философа – не контркультурна.
– Какие философы никогда не будут включены в историю философии именно по контркультурным соображениям?
– Трудно сказать. Мы обозначили настолько широкие полярности, что при желании можем легко уложиться в них.
– Это-то и пугает... Или речь может идти только о мизософах и истории мизософии..?
– Могу привести пример контркультуры как таковой. Приведу два фрагмента – о стриптизе у Барта и рассуждения о сексуальной революции у Лотмана. По Лотману, признаком классической культуры является оппозиция «прикровенность/откровенность». Об этом же пишет позже Кнабе в своей «Диалектике повседневности». Данная оппозиция означает, что в культурном сообществе часть отношений между людьми является закрытой, не выставляется на всеобщее обозрение, хотя она существует. Поэтому в известных отношениях близости между мужчиной и женщиной вряд ли мы можем выдумать что-то принципиально новое, по сравнению, например, с «Камасутрой» (может быть, кроме некоторых технических средств). Она не предназначалась для чтения вслух или для массового читателя. В чём, по Лотману, контркультурный смысл сексуальной революции? В том, что она разрушает указанную оппозицию посредством вынесения на всеобщее обозрение того, что должно быть сокрыто. Поэтому это контркультурное явление, ибо направлено против культуры в целом, в том её виде, в котором она существовала как локальная культура.
Барт подходит к проблеме с другой стороны. Для него любое явление, даже самое откровенное, может носить культурный характер, но опять же – если соблюдается некая дистанция, иначе говоря, если оно сознательно скрыто. Всё зависит от формы подачи. Существует классический французский стриптиз. Объект, который раздевается на сцене, для вас недоступен. Более того, представление устроено так, чтобы ближе, чем на 3-4 метра вы не могли подойти. Вы не можете дотронуться до объекта, сунуть в соответствующие атрибуты одежды деньги – как часто показывается в американских фильмах. Объект вожделения, таким образом, принципиально недоступен. Затем, пишет Барт, он выходит из одного заведения и заходит в другое, в котором его секретарша делает то же самое, но совершенно в других условиях. Одежда не столь хороша, публика стоит вплотную к объекту и дотрагивается до него, что-то там вовремя не снимается и т. д. Первое явление культурно, поскольку недоступно, а второе – принципиально антикультурно. Когда мы говорим о клиповости, подростковости и фрагментаризации культуры, то всё это следствия целой серии контркультурных явлений. Я не хочу лить крокодиловы слёзы. Как философы мы должны оценить новые явления, порождаемые развитием глобальной системы коммуникации.
– Что за история существует по поводу того, как вы в учебнике по философии просклоняли фамилию Деррида, которую наши философы предпочитают по-снобски не склонять?
– По-моему, я ничего не склонял… Может быть, это опечатка..?
– В вашем тексте фамилия «Деррида» склоняется несколько раз…
– Что ж, раз так получилось – пускай остаётся. Русский язык есть русский язык. Иностранцы не переделывают свои языки под нас, поэтому здесь нет ничего страшного. В принципе это правильно. Например, мою жену-немку очень часто коробило, что мягкое немецкое «х» в фамилии «Хейне» по-русски произносят как «Гейне». Почему это произошло – сейчас уже трудно сказать. Но вряд ли следует переучиваться и письму, и произношению. В связи с этим мне вспоминается один интересный эпизод из детства, когда нам объяснили фашизм через четыре «г» – Геринг, Геббельс, Гимлер, Гитлер. А на самом-то деле они пишутся по-разному – Геринг через «г», а Гитлер через «х».
У меня трое детей и все они граждане Германии. Было занимательно наблюдать за некоторыми филологическими вещами. Например, когда мой сын хотел сказать «хороший чай», произносил по-русски – «чай», а когда «плохой чай» – «tea». «Чай» – это что-то вкусное, а «tea» – суррогат.
– Ещё один интересный эпизод был на IV Российском философском конгрессе, который практически весь прошёл под критикой Жака Дерриды. Помню, как выступление Садовничего сопровождалось слайд-шоу и последней фигурой в нём был Деррида. Призрак Дерриды витал над конгрессом. Почему в нашей философской среде такое пренебрежительное отношение к французскому деконструктивисту? Это сказывается даже на уровне анекдотов и смешных стишков о нём («От Жака Деррида – ни пользы, ни вреда» и т. д.).
– Странно, а я этого не заметил. Мне, наоборот, казалось, что все им увлечены. Если, конечно, его не примитивизировать. Но у меня достаточно взвешенное отношение к Дерриде – постмодернизм скоро (а может быть, уже) займёт своё место на философской полке рядом с Платоном и Кантом. В философии было всё. Когда я встречался с Кристевой, то всё время думал, глядя на неё, что передо мною живой классик постмодернизма, ухоженная и шикарная дама, которая в конце беседы спрашивает о том, где у вас в Москве злачные места и можно ли их посетить. Её книги, наверное, стоят в Париже в коленкоровом переплёте, и этот дорогой переплёт не противоречит эпатажу её произведений. Культура перемалывает всё, но всему отводит своё место. В этом смысле, как мне кажется, постмодернизм принципиально нового в философию не внёс. Он просто попал в удачный период – ещё раз здорово заострил тот факт, что философию нельзя сводить к науке, к системе (куда деть массу произведений того же Ницше?) и обратил внимание на языковые проблемы, лишний раз их выпятив. У меня есть статья под названием «Конструктивизм деконструктивизма». Как бы это ни было обидно для постмодерна, но его позиция весьма конструктивна. Многие постструктуралисты – это бывшие классики структурализма. И это понятно. Но когда некоторые «исследователи» говорят о болезнях, о сумасшествии постмодернистских философов, о том, что они либо «голубые», либо «серые», то меня это абсолютно не волнует. Поскольку философия в классическом понимании является самосознанием культуры, постольку постмодернизм как философия отражает особый этап развития этой культуры – культуры постмодерна. Мои выводы не могут обидеть представителей постмодернизма – когда я пишу о попсе в философии, речь идёт не о том, что Деррида прост (попробуйте его почитать!), а о том, что его использование как философа носит попсовый характер. Возникает фрагментарная философия, которая затем сводится к простой вещи – «Деррида за 90 минут».
– Кстати, сейчас в этой серии Пола Стретерна появились книги и о русских философах (Леонтьев, Мамардашвили и другие).
– Это пример клиповой философии. На современного человека оказывается столько коммуникативных воздействий, что он не может осилить толстые книги и приучается мыслить клипово. Постмодернизм столкнулся с ситуацией интернета – смерть автора (полно анонимных публикаций), фальсификация наподобие вашей гиренковской (думаешь, что читаешь Пушкина, а это Сидоров с соседнего этажа) – всё это внешне кажется безобидным и даже интересным. Но есть одно очень серьёзное «но». Гарантией «качества», например, является твёрдая обложка. Текст зафиксирован. А представьте, что вы подросток. У вас хороший компьютер, интернет. Вы лезете туда и хотите прочитать что-нибудь о войне. Натыкаетесь на трактовку Суворова. Другой – на другую трактовку. Когда мы с вами взрослые люди – ничего страшного в этом нет. Вы поймёте, что это подделанный Тютчев, если знаете настоящего. А ведь подросток может изначально получить фальсифицированное знание. Постмодерн столкнулся с этой проблемой – а отсюда фрагментарность, чтение с любой страницы. Такая же попса существует и в науке, когда вместо поиска истины существует потребление истины, а сама наука превращается в серию заведомых дезинформаций и «сенсаций».
– Вы не считаете философию средством самовыражения автора?
– Человек может самовыражаться в философии, но всё-таки есть смысловая понятийная система. Философия не сводится к чистой эстетической функции от чтения. Если вы хотите, чтобы ваши идеи поняли (а внутри каждый философ этого желает), вам нужно говорить на понятном другим языке. Ведь некоторые просто отмахиваются от читателей с формулировкой «Это вам всё равно никогда не понять». Получается, что автор пишет текст для себя, и он в принципе не предназначен для других.
– Или вся последующая жизнь для такого философа становится банализацией и тривиализацией собственного творчества..?
– Нужно уметь избежать этих двух крайностей, чтобы философ не смог уйти от критики. Я против принципа «двойной непрозрачности философии». Философия не должна быть мутной и непонятной, исходя из логики – чем меньшее количество людей меня понимают, тем степень философичности моего произведения выше. Всё можно довести до абсурда.
– По-моему, автор всегда пишет для себя.
– Думаю, что у Дерриды не было никакой имитации, но есть ещё псевдопостмодернизм, когда начинается нечистоплотная игра. Я люблю приводить студентам такой пример: после перестройки стали много переводить Хайдеггера. Были даже такие случаи, когда за переводы брались люди, изучившие язык за 3 месяца, хотя Хайдеггера нужно переводить на специальных семинарах. Работает логика, что Хайдеггер – философ сложный, и поэтому слово «Raum» в его текстах следует переводить не как пространство, а используя его 24-е значение из немецко-русского словаря. Я в шутку советую – возьмите статью из «Московского комсомольца» и с помощью словаря Даля переведите её с русского на русский язык, используя 20-е и 30-е значения. Получится очень любопытная вещь.
– Хайдеггера испортил Бибихин, который создал именно своего Хайдеггера. Когда я разговаривал с Хоружим, то он привёл для сравнения сделанный им перевод Джойса и бибихинский перевод Хайдеггера. Хоружий считает, что он адаптировал текст Джойса для русского читателя, а Бибихин, наоборот, усложнил Хайдеггера и сделал его нечитабельным…
– Согласен. А Витгенштейн в переводе Бибихина вообще вызывает массу сомнений. Помнится, перед смертью я встретил профессора Грязнова, который возвращался со спецкурса Бибихина о Витгенштейне. Настроение у него было печальное. Проблема перевода философских текстов – одна из самых сложных. За некоторыми текстами стоят такие пласты культуры, что переводами-однодневками трудно что-то понять, – нужны обширные комментарии. Попробуйте перевести американцу анекдоты про Штирлица. Для этого вам потребуется рассказать о Великой Отечественной войне, о том, что именно мы в ней победили, о периоде создания фильма «Семнадцать мгновений весны» и т. д.
– Метафорически выражаясь, постмодернизм закончился или близится к концу. Какой «изм» летает в воздухе?
– Может быть, феноменология..?
– Два года назад умер последний феноменолог – Рикёр…
– Я говорил о вторичном уровне феноменологических исследований. Все терминологические вещи в философии относительны. Я всё больше убеждаюсь в том, что если речь идёт о достаточно крупной фигуре, прожившей долгую жизнь (наподобие А. Бергсона), то его трудно отнести к какой-то определённой области. Может быть, новый «изм» будет связан с философией коммуникации..?
– А новомодная философия сознания в рамках аналитической философии, лидерами которой являются американцы?
– Честно сказать, я не понимаю эту философию сознания. Мне она кажется надуманной. У меня такое ощущение, что всё это можно легко найти в дискуссии Ильенкова и Дубровского о природе идеального. Профессор Васильев очень оптимистично относится к философии США. Его критерий – чтение философских книг в метро. По-моему, это не критерий. У нас в метро тоже читают философию. Когда я приглашал Хабермаса в Россию, то в письме изложил следующий аргумент: приезжайте к нам, потому что Россия – единственная страна в мире, где философия присутствует в чистом виде, где о философии не стыдно говорить в любом месте. Конечно, я немножко утрирую, но, например, в Германии говорить о философии не с философом – признак плохого тона. Вас не поймут. Мы же знаем состояние их философии лучше, чем они сами. У нас огромный философский потенциал, но нам необходимо уходить от сознания нашей вторичности, правда не впадая и в другую крайность, когда специфика связывается с тем, что нас никто не понимает. Один мой знакомый, когда-то руководитель фонда Аденауэра в Москве, г-н Боссен в конце 1990-х годов, устав от постоянного цитирования для необходимого понимания русской души фразы Тютчева «Умом Россию не понять» (а он очень любил Россию) воскликнул: «Но чем же вас понимать – ж… что ли?..». Россия очень философична, и в ней, конечно, есть и будет собственная философия.
Беседу вёл Алексей Нилогов[1] П. В. Алексеев. Философы России XIX – XX столетий. Биографии, идеи, труды. – М., 2002. – С. 634-635.
Дата публикации: 02.03.07
Проект: Философские институции
© Нилогов А. 2007