
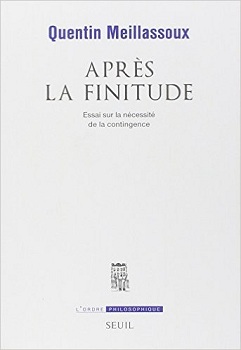
[Квентин Мейясу. После конечности. Эссе о необходимости контингентности» Квентина Мейясу // Quentin Meillassoux, Après la finitude : Essai sur la nécessité de la contingence, Seuil, 2006, 178 p.]
«После конечности. Эссе о необходимости контингентности» Квентина Мейясу (Quentin Meillassoux) – несомненно, наиболее значительная работа последних лет на французском языке, из числа относящихся к жанру «чистой философии» (если не брать несколько более ожидаемой «Логики миров» А.Бадью). Выпущенная в 2006 г. издательством Seuil, книга приобрела значение культового произведения для достаточно обширного международного сообщества сравнительно молодых англо- и франкоязычных философов, образующих течение так называемого «спекулятивного реализма»[1] (этот термин отдельно вводится в «После конечности»).
Несколько комментариев относительно автора и весьма специфического контекста, в который сейчас погружены его работы. Квентин Мейясу родился в 1967 г., выпускник и сотрудник (в настоящее время - directeur des études) Ecole normale supérieure (Ulm). Диссертация 1997 г. «L’inexistence divine. Essai sur le dieu virtuel» («Божественное несуществование. Эссе о виртуальном боге») обращена к проблеме возможности размышления о боге за пределами традиционного теолого-метафизического дискурса, однако проблема эта ставится здесь, как будет ясно из дальнейшего, совершенно не так, как у французских мэтров мышления «бога без бытия» (прежде всего – Ж.-Л. Мариона). «После конечности» на сегодняшний момент является единственной большой публикацией Мейясу – но, по сравнению с еще томами большой французской философии вроде Делеза и Гваттари, или начавшимся выпуском бесконечных семинаров Деррида, книжка Мейясу с ее 180 страницами выглядит скорее непритязательно. Не являясь формально учеником Бадью, Мейясу, однако, несомненно, находится в поле его притяжения – так же как и другая референтная фигура «спекулятивного реализма» – Рэй Брасье (Ray Brassier), автор Nihil Unbound, а также переводчик на английский язык таких работ Бадью, как «Св. Павел: основание универсализма». Небольшое предисловие Бадью к «После конечности», несомненно, обеспечило узнаваемость работы, заставив читателя ожидать, скорее, некоторых экспликаций доктрины «самого крупного современного французского философа» – чего в книге, однако, нет, хотя есть некоторые ссылки на результаты двухтомника Бадью «Бытие и событие». Сам Бадью ограничивается лишь чисто формальным замечанием: «это краткое эссе… обращается к корню проблемы, которая запустила критическую философию Канта и, в каком-то смысле, разбила историю мышления надвое». Указывая на «проблему Юма» (проблему постоянства законов природы, не поддающегося логической реконструкции), Бадью говорит о том, что попытка со стороны Мейясу обратиться к этой проблеме позволяет заново перераспределить все пространство современной мысли, начать заново с того места, где образовался неразрешимый узел.
Казалось бы, вряд ли можно ожидать от такого «краткого эссе» действительного прорыва в философии, тем более по проблеме, которая не одно столетия оказывалась в центре внимания. Однако теоретический impact книги весьма ощутим – именно потому, что в ней делается последовательная ставка на рассуждение, и ни на что больше. Еще труднее ожидать того, что чисто академический текст станет предметом многочисленных реакций и превратится в своеобразный манифест группы «спекулятивных реалистов», куда – хотя и с большими оговорками - помимо обозначенных фигур попал Грэм Харман (Graham Harman), последователь Латура и Хайдеггера, блог которого осенью 2008 года стал чуть ли своеобразным СМИ по проблемам спекулятивного реализма и близким к ним (хотя теоретически Харман и не может считаться последователем Бадью или Мейясу). Ссылки на doctorzamalek.wordpress.com наводнили англо- и франкоязычную философскую блогосферу, но, к сожалению, недавно Харман закрыл свой блог (сейчас он ведет его дубль – doctorzamalek2.wordpress.com), по не совсем ясным причинам. Циркуляция на блогах и отдельных сайтах проблематики «спекулятивного реализма» и подвязка под нее некоторых более старых авторов – например Франсуа Ларуэлля, создала достаточно консистентное международное сообщество (Брасье – англичанин, но сейчас работает в «Американском университете в Бейруте», Мейясу – француз и парижанин, Харман – американец, но живет и преподает в Египте), а сама книга «После конечности» стала действительно seminal, главной референцией для «спекулятивных реалистов». Особенно после того, как в 2008 г. она вышла в английском переводе (сделанном опять же Брасье).
Не обращаясь сейчас к вопросу консистентности этого новейшего течения в теоретической философии (поскольку достаточно легко расписать его в качестве некоего слабо связанного ансамбля – а интересующиеся могут обратиться к закэшированной юмористической истории от Хармана, в которой он рассказывает о том, что само название «спекулятивный реализм» - не более, чем плод маркетингового гения Рэя Брасье) и не вдаваясь в подробности обозначившихся трендов внутри самого «спекулятивного реализма», противопоставляющегося «спекулятивному материализму» (однодневная конференция с участием всех основных участников этих многомесячных дискуссий – Г.Хармана, А.Тоскано (с докладом от Мейясу), Р.Брасье – проходит 24 апреля 2009 года в University of the West of England в Бристоле), здесь я попробую выписать лишь основные ходы Мейясу вместе с тем критическим горизонтом, который ими задается, а также указать на некоторые достаточно значимые уязвимости логики «После конечности» - учитывая заявленные ею задачи.
Древности и математика
Кантовское решение проблемы Юма – это, по сути, и есть вся критическая философия. Задавая различие между эмпирическим восприятием и трансцендентальным конституированием, она определяет в том числе и те решения, которые, как будто, противились философии «трансцендентального субъекта». Одна из ставок Мейясу – проблематизировать исходную матрицу решений Канта, показав заодно, что кантианская линия остается базовой для множества авторов, которых современная философия привыкла скорее противопоставлять.
Однако проблематизация имеет здесь не текстуальный характер. Первая глава, которая и намечает проблему, имеет трудно переводимое название «L’Ancestralit?» (то есть «Древность», «Предшественность»). Для демонстрации сути кантовского решения Мейясу сначала напоминает о старинном философском различии первичных качеств и вторичных, различии, которое, например, вполне выполнялось в картезианской философии. Первичные качестве – это то, что приписывается вещам независимо от факта их наблюдения или независимо от того опыта, который у нас есть. И наоборот, вторичные качества, - это то, что определено лишь опытом. В частности, некоторые физические характеристики объектов – измеряемые и математизируемые – являются «первичными», тогда как такие качества, как «запах» или «цвет» являются вторичными.
Критическая революция закрыла это различие – по крайней мере в его наивной форме – сделав так, что мыслить некую вещь, делая вид, будто мы не знаем, что именно мы мыслим эту вещь, стало невозможно. Критика означает запрет на наивное «мышление вещи», то есть на то, чтобы в мышлении пропускать сам факт мышления. В результате, например, то же различие первичных качеств и вторичных подвергается изменению – важный пункт состоит именно в том, что, хотя область философии ограничена соотношением, синтезом мыслимого и мышления, такой синтез не означает простого принятия субъективного идеализма: внутри кантианского решения «первичные качества» (как качества догматические) получают новую интерпретацию, погружаются в трансцендентальную аналитику за счет того, что они могут быть только тем, что способно подвергаться универсализации в пределах работы чистого рассудка. Например, суждение «этот камень горячий» - чисто субъективное суждение, на базе которого невозможна никакая наука. Напротив, суждение «этот камень имеет температуру 50 градусов по Цельсию» - является объективным, но не потому что оно «соответствует» реальности, а потому, что оно уже выполнено как возможность универсализации определенного опыта – каждый может замерить температуру камня и воспроизвести этот опыт. Подобная конфигурация, получившая название «трансцендентальной», оказывается значимой не только для собственно трансцендентализма и феноменологии, но и для многочисленных течений мысли, выступавших критически по отношению к ним.
Сам Мейясу практически не пользуется термином «трансцендентализм», поскольку ему важно выделить наиболее общие черты того решения, которое закрыло возможность мыслить «вещи в себе» так, словно бы мы о них не мыслили (или словно бы мыслили не мы, а кто-то другой, например Бог – причем так, что мы могли бы подслушивать его мысли). Это наиболее общее решение, господствующее в философии после Канта, Мейясу называет «корреляционизмом»: «Под “корреляцией” мы подразумеваем идею, утверждающую, что мы всегда имеем доступ только к корреляции мышления и бытия, и никогда – к ним, взятым по отдельности. Следовательно, мы будем называть корреляционизмом любое течение мысли, которое будет настаивать на непреложном характере так понимаемой корреляции» (p. 18). Корреляционизм всегда устанавливает некоторый «круг», который предполагает, что вне соотношения мыслимого и мышления, субъекта и объекта, само мышление существовать не может, причем такой тезис представляется тавтологическим. Любые суждения, которые претендуют на то, чтобы мыслить и представлять нечто абсолютное, то есть то, что существует само по себе именно в определенном качестве, безотносительно к факту мышления, представляются критической философией догматическими.
Все это, за исключением общего термина «корреляционизм», является именно некоторым common sense современной философии, ее наибольшим общим знаменателем, который настолько тривиален, что вообще не нуждается в обсуждении – после Канта ни один философ не стал бы обсуждать эти моменты, центрироваться на них как на том, что вообще требует обсуждения и что может принести какие-то решения. Вопрос уже не в том, чтобы «мыслить субстанцию», а в том, как работать внутри корреляции – и здесь могут быть совершенно разные решения, - отметим, например, несколько выходя за круг тем и имен, употребляемых Мейясу, что такими решениями оказываются не только собственно модернистские трансцендентальные и феноменологические теории, но и деконструкция как теория базового синтеза, или базового трансцендентального движения, последовательно разоблачающего различные традиционные метафизические абсолюты. Мейясу же считает, что именно исходная трансцендентальная логика, логика корреляции терпит провал, причем именно в актуальной практике науки.
Пусть современная мысль и потеряла «Великое Внешнее», «Le Grand Dehors», как выражается Мейясу (p.21), докритических мыслителей, но, возможно, раз эта мысль сумела решить существенные проблемы и, при том, с самого начала фактически выступала в качестве теоретического сопровождения науки, не стоит так уж заботиться о каких-то догматических желаниях? Но Мейясу показывает, что успешность трансцендентального и кантианского решений может быть поставлена под вопрос как раз современной наукой. В каком-то отношении, если проблеме Юма противоречила ньютоновская физика, то самой конституции критической философии противоречит современная математизированная наука, которая в наиболее явной форме выносит множество суждений о «вещах в себе», причем, что важно, о вещах, которые принципиально не могут находится в какой бы то ни было корреляции с «мышлением».
Мейясу приводит довольно много примеров научных суждений относительно реалий, которые существовали задолго до появления собственно науки и человеческого мышления. Например, суждения о Большом взрыве, формировании Земли как планеты, появлении человека и т.п. Базовый вопрос: «как можно мыслить смысл подобного дискурса, который делает из самого отношения к миру – живого и /или мыслящего – некий факт, вписанный в темпоральность, внутри которой это отношение является всего лишь одним событием среди прочих, то есть вписанным в последовательность, для которой он не является ни вехой, ни началом?» (p. 25). Мейясу называет «древней» (ancestrale) любую реальность, предшествующую появлению человеческого вида и сознания, а архи-ископаемым (archifossile) – любой материал, указывающий на существование «древней» реальности или события (пример archifossile – реликтовое излучение). Мейясу заявляет, что эти «древние» суждения науки радикально противятся любым корреляционным интерпретациям. Действительно, «древние» суждения могут быть присвоены трансцендентализмом или феноменологией только путем некоторых переинтерпретаций, базовым элементом которых является то, что «научные» тезисы нельзя принимать буквально, что они всегда требуют «восстановления» того опыта, внутри которых они только и могут быть возможны, тогда как «голые» суждения науки представляются в качестве результата некоторого упадка, забвения или вытеснения исходного корреляционного опыта, седиментации (если в терминах феноменологии).
Упоминание различия первичных и вторичных качеств служит для того, чтобы оттенить проблему: несмотря на видимость всеобщего согласия с кантианским решением, на деле, представители науки, скорее, согласны с картезианской трактовкой – такие свойства как цвет или запах, несомненно, субъективны, однако считать математизируемые качества зависимыми от корреляционного опыта ученые, на самом деле, не могут. В действительности, ученый никогда не может сойтись с философом-корреляционистом, поскольку последний всегда предполагает, что для полного осмысления суждений первого их следует подвергнуть минимальной корректировке. Например, к суждению «событие X случилось за y лет до возникновения человека» (p.30) может быть добавлено «по мнению ученого, событие X случилось за y лет до возникновения человека» или, в общем, «для человека как такового, событие X случилось за y лет до возникновения человека». У суждения науки, предполагает философ, всегда есть «двойной смысл», двойной стандарт, который и вскрывается его работой. Если же принять только первый, буквальный смысл, обнаружится масса философских проблем, а именно: бытие радикально расходится с манифестацией бытия (бытие с явлением, событие с данностью и т.п.); само появление манифестации имеет датировку, а не является внеисторическим условием опыта; мышление (в его научной форме) способно не только мыслить появление манифестации как факт, но и оценивать архи-ископаемое как то, что является данным в настоящем представлением того сущего, что предшествует любому формированию данности, и т.д.
Корреляционизм всегда действует путем переинтерпретации и ретроекции – представления явного смысла научных суждений в качестве того, что намеренно относится к прошлому на основе некоего актуального опыта (оценки окаменелостей, измерений и т.п.). Однако внимание к функционированию научных суждений показывает: само условие их работы в том, чтобы они понимались буквально. Ученый обсуждает не возможность ретроекции, а именно реальный возраст Земли как сущего, не зависящего от собственно научного опыта. По сути, если бы подобные суждения могли иметь для ученых смысл только благодаря трансцендентальному механизму, то есть посредством возможности универсализации, они как раз не были бы интересными (простое согласие по ним никого не интересует, как и возможность универсализации без предельной объективации), поэтому единственный выход для трансцендентальной философии – это считать, будто ученые находятся в плену некоей системной иллюзии. Следствием такой же иллюзии является математизация – то есть возможность говорить о некоторых «невозможных» референтах (например, о космосе до образования сознания) в абсолютистском режиме.
Иными словами, современная наука ставит проблему возможности выработки суждений, которые радикально противятся любой трансцендентальной обработке, которые мыслят некий натуральный абсолют, причем эта мысль говорит на языке математики. Каково условие легитимации подобных суждений – вот вопрос, который ставит себе Мейясу. То есть: каковы трансцендентальные условия возможности суждений, которые принципиально а-трансцендентальны, «догматичны» в самом неотменимом смысле этого слова? Как возможен абсолют вне круга корреляционизма – и как можно разорвать этот круг, чтобы получить доступ к абсолюту, который одновременно обеспечил бы валидность математического знания о себе? Эти вопросы получают ответ путем весьма непростого рассмотрения самой структуры закрытия «абсолютистских» суждений в философии.
Неметафизический абсолют: возвращаясь к Декарту с другой стороны
Мейясу, показывая, что наука сохраняет страсть к «абсолютистским» суждениям (то есть суждениям о сущем, не предполагающим «редукции» к корреляциии мышления и сущего), в то же время отчетливо понимает, что эти научные тезисы давно подвергались «погружению» в различные версии трансцендентализма. Однако, как он показывает, соответствующие способы «эмуляции» абсолюта не проходят.
Как же обстоят дела с абсолютом в современном горизонте философии. С одной стороны, ясно, что абсолютистские суждения науки могли бы поддерживаться онтологией, напоминающей картезианскую. Декартовские рассуждения предполагают возможность доказательства существования абсолюта (нелживого Бога). Однако это онтологическое доказательство было закрыто принципом фактичности – а именно, нет никакой сущности, которая по самой своей сущности обладала бы существованием. Онтологическое доказательство, как известно, строится на метафизическом принципе достаточного основания («у каждого сущего есть достаточное основание его существования»), который требует, чтобы существовало сущее, само являющееся основанием своего существования. Фактичность же – первоначально в кантовской версии – говорит о том, что существование вообще не является предикатом, а является лишь данностью в горизонте опыта (хрестоматийный пример про воображаемые талеры и реальные). В этом смысле, метафизический абсолют невозможен – кантовская революция необратима. Концептуализация «существования» как полагания изменила весь распорядок мышления, сделав невозможным мышление метафизического «закрытого» мира, в котором так или иначе в основе отыщется сам себя обосновывающий абсолют. Поэтому, если нам требуется абсолют, он должен быть неметафизическим, он не должен отсылать к традиции онтологического доказательства (в той или иной форме – заметим, что у Декарта она не совсем тривиальна). Мейясу проводит различие между метафизическим рассуждением и спекулятивным (p.47) – если второе стремится получить доступ к абсолютному как таковому (то есть просто не зависимому от мышления), то метафизическое претендует на доступ к абсолютному сущему, следовательно, любое метафизическое рассуждение является спекулятивным, но не наоборот.
Что еще более важно, принцип фактичности (его интерпретация по сути и оказывается главной задачей Мейясу), закрывает возможность и посткантианских эмуляций «абсолюта», которые известны по классической немецкой философии (и которая в той или иной форме обусловила эпистемологические решения философии 20 века, вплоть до некоторых версий т.н. «антропного принципа»). В самом деле, это решение требует справиться с эффектом «абсолютизации» за счет того, что сама инстанциация корреляции в данном нам опыте представляется вторичной – по отношению к некоему объективно-идеалистическому процессу корреляции, в котором субъектом оказывается уже не конечный субъект, а абсолютный (в том числе «Воля» Шопенгауэра или «Жизнь» Бергсона). По мнению Мейясу, точность кантовского проекта в том, что он настаивает на фактичности коррелята, а не только на самой коррелятивности как таковой: «данность» должна быть осуществлена, выполнена, позиционирована, она не может существовать в качестве абсолютного процесса. Отсюда следует, что внутри корреляционной структуры невозможно повторить аристотелевское различие «первого для нас – первого по природе» и, соответственно, представить «первое для нас» в качестве деривата первого по природе, некоей сверхкорреляции, управляющей своими частными инстанциациями.
Следует отметить, что более важный момент фактичности, который отмечает Мейясу, отождествляя его с необходимостью истолкования существования как «фактической данности», состоит в том, что фактичность закрывает возможность «обоснования» данности некоей метафизической или логической необходимостью. Нет никакого «основания» у того, что в данном опыте вещи даны именно так, а не иначе. Для Канта, конечно, есть формальное основание данности, а именно вещь в себе, однако она не может быть метафизическим основанием в силу своей непознаваемости. Принципиальным моментом, обеспечивающим фактичность, является то, что сами формы данности являются фактичными, то есть поддающимися только описанию, но не дедукции (это не совсем так – и к этому я еще вернусь). По мнению Мейясу, именно в этом состоит различие между Кантом и Гегелем (p. 52): именно представление категорий чистого рассудка и форм чувственности в качестве «первого факта», не выводимого из какой бы то ни было логической необходимости, обеспечивает продуктивное различие вещи в себе и вещи для нас, поскольку в противном случае, у Гегеля, логическая дедукция делает само это различие лишь моментом системы, закрывая, таким образом, базовый принцип фактичности.
Этот ход оказывается ключевым для всего рассуждения Мейясу: формы данности мира сами фактичны в том смысле, что я не могу доказать, почему они должны быть именно такими, а не другими. Они принципиально не-необходимы, хотя в актуальном опыте мы никогда не сталкивается с их изменением. Строгая версия корреляционизма утверждает, что нельзя мыслить саму невозможность их изменения, то есть невозможно мыслить запрет на данность принципиально иной реальности. Сама структура логичности или данности мира уклоняется от какого бы то ни было обоснования, представляя базовый отказ от принципа достаточного основания или являясь, в терминах Мейясу, irraison. Резюме сильной модели корреляционизма (которая, по версии Мейясу, находит развитие в постмодернистских продолжениях корреляционизма и, с другой стороны, в современном фидеизме, который исходит из того, что нет ничего немыслимого в том, чтобы существовало какое угодно божество, даже нарушающее принципы противоречия) выглядит так: «Немыслимо, чтобы немыслимое было невозможным» (p. 56). Мейясу (упоминая таких авторов, как Хайдеггер, Витгенштейн и Левинас) рисует достаточно обширную картину господства «сильного корреляционизма» в современной философии, открывшего дорогу и иррациональным религиозным верованиям (поскольку мышление не может претендовать на абсолют, доступ к нему должен быть получен в обход мышления). И именно сильный корреляционизм как наиболее развитая позиция не-возможности абсолюта должна дать возможность произвести переворот.
Логика этого переворота излагается Мейясу в третьей главе книги «Принцип фактуальности». Исходя из того, что некоторые суждения науки требуют наличия абсолюта или абсолютизации, Мейясу, однако, указывает на то, что сильный корреляционизм закрыл возможность метафизического абсолюта: мыслимое нами в качестве абсолюта, тем не менее, дано в качестве объекта мысли именно для нас, что отменяет его абсолютность. Фактичность не позволяет эмулировать «корреляционистский» абсолют (в стиле немецкого идеализма). Но, по логике Мейясу, именно она открывает путь для спекулятивного, но неметафизического абсолюта.
Поскольку абсолютизировать коррелят и корреляцию (как в объективном идеализме) не представляется возможным, единственный шанс выскочить из корреляционистского круга – это абсолютизировать саму фактичность. В пределе корреляционистского рассуждения, отсылающего к тому, что сами формы данности не могут быть дедуцированы, и потому оборачивающегося скептицизмом, обнаруживается, что «все может быть совсем иначе», то есть «фактичность» означает то, что и структура мира и сам мир могут быть другими, однако сама эта фактичность является неотменимой и уже потому – абсолютной, выходящей за пределы просто опыта мышления. Для демонстрации своей позиции Мейясу проводит многочисленные «диспутации». Например спор между догматиками разных толков, субъективным идеалистом (в действительности – именно «объективным»), корреляционистом и собственно спекулятивным реалистом (позиция автора), превращающим «незнание» корреляциониста или скептика (последний строит свое рассуждение на том, что он не может знать, как все обстоит на самом деле, поскольку не знает основания форм данности). Относительно вопроса «жизни после смерти» или после актуально данного опыта могут существовать различные догматические позиции, которые разоблачаются корреляционистом как необоснованные, поскольку они предполагают возможность продуктивного мышления того, что принципиально выходит за пределы мысли (нельзя мыслить то, что есть тогда, когда тебя нет). Объективный идеалист пытается разоблачить позицию скептика-корреляциониста за счет гипостазирования корреляции: раз я могу мыслить себя только в качестве существующего, а не несуществующего, следовательно, я всегда существую, в определенном смысле, отличном от эмпирического существования (существование трансцендентального субъекта и т.п.). Тем самым сама идея абсолютно отличного «в себе» отвергается. Против этого аргумента последовательный корреляционист, пользуясь принципом фактичности, выдвигает тот тезис, что в силу отсутствия какого бы то ни было основания оставаться в той или иной определенной сущностной форме и догматический, и идеалистический варианты мыслимы и в равной степени возможны: хотя я не могу мыслить немыслимое, я вполне могу мыслить возможность немыслимого благодаря принципу отсутствия достаточного основания (irraison). Отсюда отвержение догматических и идеалистических позиций как абсолютистских.
Напротив, спекулятивный реалист утверждает, что абсолют – не одна из возможностей, утверждаемых относительно сущего вне опыта мысли (например сущего после смерти), но сама возможность быть иным, то есть абсолютно возможный переход от одного состояния к другому. Без привязки к аргументу о состоянии после смерти (спекулятивный реалист утверждает, что это состояние может быть любым и именно этот модус «любого», «произвольности» является абсолютным, не зависящим от нашего мышления), аргументация строится так: всякий раз, когда скептик пытается дезабсолютизировать возможность-быть-иным, он именно что ее абсолютизирует: «Корреляционист на самом деле делает противоположное тому, что он утверждает: он говорит, что возможно мыслить истинность метафизического варианта, который закрывает возможности, а не истинность спекулятивного варианта, который их открывает, - но сказать так он может лишь при том условии, что сам мыслит открытую возможность, которая предполагает, что ни у одного из вариантов не больше оснований произойти, чем у другого. Эта открытая возможность … – и есть абсолют, который нельзя дезабсолютизировать, не мысля его опять же как абсолют» (p. 79)».
Ключевым моментом является переход от «возможности основанной на неведении», которая используется корреляционистом, к реальной возможности спекулятивного реалиста. С точки зрения корреляциониста, утверждение о равных возможностях метафизических опций М1 и М2 – это просто еще одна возможность М3, которая говорит лишь о том, что мы не можем ничего знать о реальном абсолюте. Но спекулятивный реалист говорит, что присвоение его позиции корреляционистом возможно только за счет ее подтверждения: продолжение цепочки того, что «возможно по незнанию» указывает на то, что сама возможность «быть иным» мыслится абсолютно, как принцип этой цепочки, управляющий ею извне. Таким образом, сохранение самой строгой корреляционистской позиции требует действительного мышления абсолютной возможности-быть-иным, поскольку сама эта возможность как раз и различает бытие-для-нас и бытие-в-себе так, что закрывается возможность перехода к идеалистическому решению, то есть различает с сохранением принципа фактичности. Последовательное отстаивание принципа фактичности не отвергает самую позицию «бытия-в-себе», а, напротив, воспроизводит это различие так, чтобы было ясно – никакой возможности определить качества «в-себе» нет, то есть, иными словами, фактичность неизбежно отбрасывает тень «в-себе» такого, которое может быть абсолютно иным. И абсолютной, независимой от мышления, оказывается именно возможность этого бытия-иным, определенная тем, что одновременно нет никакого основания для форм данности и нет никакого основания мыслить невозможность для «в-себе» и этих форм не быть иными. Скептик, отрицая «аболютность» возможности-быть-иным, или сам irraison, на деле, как указывает Мейясу, лишь воспроизводит абсолютность различия «в-себе» и «для-себя», то есть абсолютность фактичности.
Если отклониться от текста Мейясу, станет ясно, что данное рассуждение во многом пытается повторить ход Декарта, однако с принципиально иной стороны. Как известно, Декарт применил особый тип онтологического рассуждения для того, чтобы заблокировать некоторые возможности, открытые на стадии гиперболического сомнения. На этой стадии «все может быть принципиально иным», например, нет никакого логического, то есть метафизического, основания для самого принципа непротиворечивости. «Хитрый гений», способный обмануть Декарта во всем, не может, однако, обмануть его в том, что он существует, и это существование совпадает с мышлением, поскольку для обмана необходимо, чтобы мышление было дано. С позиции Мейясу, однако, единственный способ мышления абсолюта – это смещение когитальной линии от Эго-Бог, к Эго-Хитрый гений, то есть углубление самого гиперболического сомнения. Горизонт мышления задается именно тем открывающимся в таком сомнении абсолютным фактом, что «все может быть иначе», то есть истиной хитрого гения. Иными словами, единственный абсолют, который когерентен любому мышлению как именно то, что независимо от мышления, - это хитрый гений, но уже не как просто проецирующий любые положения, а как то, что их осуществляет в модусе «возможности-быть-иным».
Сам Мейясу указывает на то, что его рассуждение носит «ангипотетический характер» в аристотелевском смысле. В некоторых отношениях оно близко к стандартному опровержению скептических аргументов, исходящему из недопустимости перформативных противоречий (противоречий между утверждаемым в речи и условием самой речи или между делаемым речью и утверждаемым в ней). Однако тут есть не только существенные отличия, но и существенные сложности. Обычное отрицание скептического аргумента (например «нет никакой истины») имеет лишь дискурсивную природу: оно указывает, в частности, на то, что некоторая истина есть, и это задано условием скептического аргумента. Спекулятивное рассуждение не может довольствоваться просто дискурсивной истиной, поскольку последняя не уклоняется от той или иной версии корреляционизма. В противоположность феноменологической редукции (это сравнение Мейясу не использует), спекулятивное рассуждение должно выделить в мысли то, что является абсолютным, то есть внеположным самой мысли, или выделить позитивное знание об абсолюте. Само открытие корреляционной структуры как истинной структуры мысли возможно только при условии абсолютности «возможности-быть-иным», возможности произвольного изменения в условиях отсутствия «достаточного» основания (то есть его отсутствия не у чего-то, а у всего). Иными словами, если корреляционная логика верна (а Мейясу считает, что она верна), в таком случае неизбежен совершенно особый абсолют, «доказывающийся» из абсолютизации одного из принципов этой логики, а именно принципа фактичности. Вопрос в том, может ли все же «абсолютизация» дать позитивное знание об абсолюте, даже если эта абсолютизация следует за самоопровергающимся рассуждением строгого корреляциониста, который каждый раз вынужден предполагать возможность иного распределения бытия-в-себе/бытия-для-нас, бытия и явления, полагая такую возможность-быть-иным в качестве абсолютно необходимого принципа фактичности? Мейясу считает, что он не только достигает абсолюта, но и то, что этот абсолют предполагает позитивную развертку знания, не оставаясь формальным принципом фактичности.
Итак, абсолют в этом смысле отличается от простой «внутримировой» возможности той или иной вещи «не быть» (или, что то же самое, безразличия по отношению к сущности факта полагания этой сущности). Что главное, простая внутримировая возможность уже вписана в круг позитивного знания, например знания о том, что снег может весной стаять. Напротив, «конитенгентность» как именно необходимая фактичность, фактичность, которая не может быть покрыта никаким метафизическим или натуральным законом, подразумевает «чистую возможность», которая вполне может никогда и не осуществиться, но при этом она, по мысли Мейясу, не является «возможностью по неведению». Абсолют проецируется за пределы стандартного отношения в-себе / для-нас как именно фактическое, необоснованное, их различие. «Контингентность такова, что произойти может все, даже то, что не произойдет ничего, и то, что есть, останется тем, что оно есть» (p. 86). И такой абсолют, конечно, радикально отличается от метафизического: «Это абсолют, в действительности, - не что иное, как крайняя форма хаоса, гипер-хаос, для которого ничто не является и ничто не может казаться невозможным, даже немыслимое… У нас [теперь есть] первый абсолют (Хаос), однако он, в отличие от правдивого Бога, похоже, не способен гарантировать абсолютность дискурса науки, поскольку, вовсе не гарантируя порядок, он гарантирует только возможное разрушение любого порядка» (p.87) (и, отмечу тут же, гарантирует невозможность определения непременного разрушения такого порядка).
Мейясу сам отмечает, что подобная форма абсолюта противоречит ожиданиям и, казалось бы, поставленным задачам, ведь необходимость абсолюта затребована вопросом обоснования математического знания, или решения проблемы абсолютистских суждений науки: требовалось объяснить, как возможны такие суждения, которые явным образом предполагают возможность математической абсолютизации и при этом отказывают в праве любой трансцендентализации. Однако Мейясу предпринимает развернутую попытку доказать то, что абсолют или абсолютная контингентность в действительности предполагает развертку в позитивное знание за счет дедукции ряда ограничений. Например, контингентность предполагает, что она необходима и при том является единственно необходимой (т.о. «хаос» в смысле Мейясу не может в принципе дать никакого «абсолютно необходимого» сущего). Хаос «структурируется» (не онтологически, а логически) за счет самоограничения (autolimitation) (p.90), заданной положениями: только не-необходимость является необходимой, и не может существовать ничего такого, что могло бы только существовать (иными словами, нет абсолютного сущего).
Достаточно развернутое рассуждение, которое я не буду полностью воспроизводить здесь, поскольку по отношению к основному тезису Мейясу оно представляется уже скорее прикладным, позволяет вывести закон исключенного третьего (и недопущения противоречия) в качестве именно характеристики «в-себе», а не только «для-нас», то есть характеристики абсолюта. Доказательство закона исключенного третьего как абсолютного представляет немалые противоречия, с которыми Мейясу так до конца и не справляется. Аргумент относительно того, что хаос может сделать возможным, хотя и немыслимым все, в том числе и тот «факт», что являющееся необходимым является и контингентным (то есть явное противоречие), опровергается косвенным путем: утверждением, гласящим, что противоречие невозможно именно потому, что противоречивое сущее сделало бы хаос невозможным, поскольку такое сущее в действительности отрицает возможность-быть-иным, или, иными словами, представляет собой чистое постоянство, ибо всякое становление и изменение блокированы в нем именно выполненным противоречием (например, противоречивое бытие не могло бы перестать быть, поскольку как противоречивое оно уже и есть, и не есть). Некоторый – и не самый серьезный упрек этому доказательству – состоит в том, что необязательно быть «противоречивым полностью», как неявно предполагает Мейясу, и что, фактически, некоторые варианты неполного противоречия вполне известны и формально изучались паранепротиворечивыми логиками (Мейясу сам ссылается на них, и утверждает, что проблема здесь остается). Так или иначе, утверждение принципа непротиворечивости как прямого следствия абсолютной ложности принципа достаточного основания еще весьма далеко до предполагаемого доказательства обоснованности математических «абсолютистских» суждений в науке.
Новое доказательство внешнего мира
Особенности метода Мейясу и логики «самоограничения» (или выведения некоторого позитивного знания из достигнутого «хаотического» абсолюта) можно для примера просмотреть на ключевом участке ответа на вопрос «Почему есть что-то, а не ничто» (p. 97-103). Мейясу, в отличие от Канта, хочет не только постулировать существование вещи в себе, но и доказать существование (непротиворечивой) вещи в себе, закрывая, таким образом, проблему этого старинного «скандала» в философии. При этом два конкурирующих решения - метафизическое и фидеистское - в равной мере наделяют эту проблему избыточным значением. В обоих случаях предполагается, что доказательство абсолютного факта существования, независимого от собственно корреляционной структуры, требует либо восхождения к последнему основанию, либо «трансцендентного» прорыва, отношения к самому факту существования мира как к некоторому дару.
Сразу можно отметить, что в случае Мейясу, который предлагает некоторое «прозаическое» решение проблемы, нет речи о доказательстве именно «внешнего» мира, речь именно о «вещи в себе», как том, что не зависит от опыта мышления. Но, как уже указывалось, полученный абсолют является именно абсолютизированной фактичностью, что есть различием между в-себе и для-нас, доведенным до предела, на котором это различие уже не является некоторой данностью мышления, а, напротив, задает любую структуру данности в качестве тезиса о необходимости контингентности. Потенциальная возможность оспорить существование вещи в себе остается именно потому, что даже при выполнении предельного скептического аргумента с его переходом в абсолютную фактичность остается возможность - по-видимому - того, что область «данности» - это все, что существует, и в таком случае тезис об абсолютности фактичности сам по себе мало что решает.
Принцип «отсутствия достаточного основания» (irraison) предполагает, что сама по себе фактичность не является «еще одним», дополнительным фактом. Контингетность (возможность быть иным, или, в пределе, возможность для любого сущего или структуры мира не быть) является необходимой. Однако Мейясу показывает, что возможна как слабая, так и сильная версия принципа «отсутствия необходимого основания». Слабая гласит: «говорить, что контингентность необходима, значит говорить, что если нечто существует, то оно должно быть контингентным». Напротив, сильная версия: «говорить, что контингентность необходима, значит говорить и то, что вещи должны быть необходимыми, и то, что должны быть контингентные вещи» (p.99). Принимая принцип irraison, нельзя не принять по крайней мере его слабую версию. Однако, как доказать сильную версию?
Доказательство от противного предполагает, что только слабая версия является истинной. В таком случае то, что вообще есть фактические вещи, является фактом, а не необходимостью. «Следовательно, и то, что вообще есть фактичность, должно быть признано простым фактом, поскольку если бы ничего не было, не были бы и никакой фактичности» (p. 100). Заметим, что этот аргумент далеко не так очевиден, как представляется по тексту Мейясу: употребление «квази-предиката» «есть» по отношению к фактичности и фактическим вещам или фактам в данном случае уравнивается именно для того, чтобы показать невозможность не-существования вещей, выводимую из невозможности не-существования фактичности (которая доказывается по обычной технологии самоопровержения скептического аргумента). Иными словами, хотя, как задано, фактичность сама не является фактом, термин «бытие» применяется к ним равным образом, иначе фраза «не было бы и никакой фактичности» не была бы очевидной. Этот пункт - вполне догматического отождествления разных «существований» в одном регистре «бытия» - используется Мейясу, чтобы показать, что если фактичность не равна факту, тогда она всегда требует «наличия» некоторых фактических вещей или фактов. «Упрощение» или «низведение» фактичности до факта, в действительности, выполняется только за счет «фактичности-2» или фактичности второго порядка. Это действительно - по данной логике - так, однако это не доказывает само по себе «существования» фактических вещей, в противном случае - как это происходит у Мейясу - мы имеем автодедукцию необходимого существования из необходимой контингентности: чтобы была фактичность, необходимы фактичные вещи (в качестве своеобразных атрибутов фактичности), а простое устранение фактичности неизбежно возвращает саму эту фактичность в качестве «фактичности - 2». Вопрос в том, почему не может существовать фактичность - 2, которая не эманировала бы фактичных вещей, если факт и фактичность различны в своем» онтологическом» статусе.
Еще более опасное затруднение Мейясу встречает тогда, когда замечает самому себе, что, даже если мы доказали необходимость существования фактов, может быть так, что эти факты будут чисто негативными, то есть выражающими отдельные факты несуществования, что устраняет возможность доказательства необходимости позитивных фактов. «Говорить, что контингентность необходима, значит говорить, что необходимо то, чтобы имелось несуществующее, которое могло бы существовать (то есть негативные факты, которые не имеют основания оставаться негативными), так же как имелось существующее, которое могло бы больше не существовать» (p. 101). Этот аргумент опровергается тем, что мыслимость фактичности (а она допускается этим аргументом) как просто мыслимость предполагает обе возможности - и возможность несуществующего существовать, и возможность существующего не существовать. Иными словами, сама сфера существования, предполагающая в своей контингентности возможность несуществования той или иной структуры данности, не может однако мыслиться в качестве «несуществующей». Отсюда делается вывод о том, что существование, если оно контингентно, требует «обоих сфер» - и существования, и несуществования. В таком случае существование фактических вещей необходимо.
Этот аргумент, если предполагать, что он должен доказывать необходимость существования вещи в себе, то есть абсолютное существование абсолюта, как представляется, уязвим в следующем отношении: обращаясь к мыслимости или к содержанию контингентности (абсолютность которой мыслится доказанной), Мейясу, однако, не уточняет, какой именно контент этой мыслимости также является абсолютным. Иными словами, доказательство «абсолюта» само построено на том, что абсолютизируется только «одна черта» фактичности, а именно то, что она предполагает абсолютную возможность быть иным. Однако тезис о «парности» структуры существования (чтобы что-то могло не существовать, что-то должно существовать) сам по себе позитивен в до-абсолютном, рассудочно-критическом смысле. То есть такое рассуждение предполагает перенос рассудочных структур на ту область, где только фактичность является валидной и абсолютно валидной. Говоря проще, тезис о возможности выполнения фактичности на области чисто негативных фактов, упомянутый Мейясу, сам по себе явно не является «немыслимым», и уже потому достаточно сложно опровергнуть его углублением в структуру мыслимости контингентности. В любом случае, для этого следовало было определить условия такой мыслимости, что не представляется возможным.
В самом деле, «доказательство» абсолютности существования (то есть того факта, что в пределе существование не зависит от выстраивания корреляционных структур, хотя для нас только данность в них имеет значение) у Мейясу приобретает форму, в которой все предшествующее рассуждение об абсолютности фактичности теряет значимость. «И правда, я абсолютно не способен помыслить уничтожение самого существования: становление-несуществующим мыслимо только как становление определенного существующего, а не как становление всего существования в целом. Утверждать, что некое существующее может существовать, причем там, что сама эта возможность является онтологической необходимостью, значит утверждать, что существование существующего в общем, как и несуществование несуществующего являются двумя неуничтожимыми полюсами, посредством которых мыслится уничтожимость всякой вещи…» (p. 102). Получается, что сама структура мыслимости существования (или, попросту, раскладка существования в качестве некоторого понятия как полярной структуры) доказывает то, что нечто существует независимо от самого понятия существования. Это, на уровне элементарной семантики, конечно так, однако это доказывает только то, что можно было доказать и внутри корреляционистского круга. Но никак не абсолютность существования. Иными словами, Мейясу неявно возвращается к онтологическому доказательству, которое представляет собой некий вариант картезианского. Если Декарт считал, что существование Бога несомненно именно потому, что идея Бога не может быть измышлена мною, как несовершенным существом, то Мейясу предполагает: сама идея существования такова, что она по своей структуре доказывает существование. Эта как раз та тонкость, которая пропускается теми, кто считает картезианское теологическое доказательство чисто онтологическим: оно онтологическое, однако в том отношении, что предполагает горизонт «производства» идей как их мыслимости: если бы Бога не было, не было бы возможно изобрести его идею (против Вольтера). Если бы не было абсолютного существования, не было бы возможно изобрести идею подобного существования, или она была бы излишней. Ясно, что, хотя Мейясу обходится здесь без собственно «онтологического» аргумента, он не обходится без аргумента о возможности выведения существования (или тем более некоторого абсолютного существования) из идеального содержания, то есть из контента мыслимости, что является, скорее, некритическим ходом и что обосновано именно проекцией метафизического рассуждения на спекулятивное. Если для доказательства необходимости вещи в себе достаточно идеи существования, рассуждения о радикальной фактичности можно опустить - хотя на итоговом шаге вещь в себе оказывается не чем иным, как фактичностью трансцендентальных форм, на промежуточных этапах доказательства необходимости их существования это не принимается во внимание - напротив, существование мыслится вполне классично, независимо от проблем данности / не-данности и вообще вопросов, поставленных трансцендентальной философией.
Проблема Юма и nihil unbound
«Итог» наброска Мейясу, как представляется самому автору, позволяет мыслить «фактуальность» как чисто спекулятивную сущность «фактичности» - уже сформулированные утверждения относительно невозможности отрицать фактичность без ее подтверждения находят завершение в принципе фактуальности, который, одновременно, оказывается формулировкой структуры абсолюта, получающей развитие за счет «самоограничения». Каковы бы ни были уязвимости такого хода, ясно, что Мейясу предлагает «спроецировать irraison в саму вещь, и открыть в нашем схватывании фактичности подлинную интеллектуальную интуицию» (p. 111) (заметим в скобках, что вопрос об интеллектуальной интуиции вызвал довольно бурное осуждение среди теоретиков спекулятивного реализма). Для понимания ставки и одновременно слабостей логики Мейясу, особенно если сопоставить ее с выявленными проблемами в плане доказательства необходимости существования вещи в себе или абсолютного существования, стоит рассмотреть - пусть и вкратце - прежде чем перейти к суммированию общих возражений, - ключевой момент применения полученного «абсолютного результата» - а именно «проблему Юма».
Последняя, как известно, послужила пунктом отталкивания для критической философии Канта. Юм предполагал, что нет, если говорить ообще, никакого реального или метафизического основания для того, чтобы мы могли оправдать нашу веру в постоянство законов природы, или, иными словами, в то, что данный набор условий в следующем случае произведет такой же набор следствий, что и ранее. Как уже ясно, «абсолют» Мейясу является выполнением именно «мира Юма», то есть мира, где нет никакого основания для того, чтобы законы природы оставались в том виде, в каком они нам известны. Однако, как представляется, тем самым его решение оказывается не только до-кантовским, но и неправдоподобным: какой смысл утверждать существование такого абсолюта, если, как кажется, именно постоянство законов природы свидетельствует против него? Де факто, именно это постоянство, в основе которого лежит принцип каузальности, является отправным пунктом для физической науки, которая может корректировать свои представления о законах природы именно на том основании, что сами эти законы остаются неизменными, хотя содержание опыта все время меняется (принцип фальсификационизма). Меняются наши знания о природе, но не сама природа - тогда как для Мейясу нет никакого основания, чтобы природа оставалась той же, что и вчера (и в таком случае, абсолют как «гипер-хаос» не только не решает исходной проблемы выяснения условий возможности математизированных суждений науки, но и делает вообще всю физику невозможной).
Проблема Юма («почему законы природы постоянны, если мы не можем найти никакого основания для их постоянства», или, в другой формулировке: «как вообще может существовать экспериментальная наука») имеет три стандартных решения, которые отвергаются Мейясу. Первое решение - собственно догматическое. Оно предполагает, что за общим порядком законов природы скрывается верховный порядок онтологического типа и, в конечном счете, сущее, которое основывает свое собственное существование (заметим, что в таком решении законы природы тоже вполне могли бы меняться, но в соответствии с некоторым высшим законом изменения самих законов природы).
Второе решение - скептическое или юмовское. Юм считает, что нет никакого мыслимого основания необходимости каузальной связи и соответственно постоянства законов природы. Например, с чисто интеллектуальной точки зрения, собственно «физические» законы не является «обоснованными», поскольку в каждом из опытов мыслимыми являются множество исходов, а не только те, что реально осуществляются (знаменитый пример Юма с бильярдными шарами, которые могли бы полететь совершенно в иных направлениях, чем на практике). Существенная новация Юма заключается в изменении всего регистра рассуждения о необходимости и каузальности: вместо того, чтобы исследовать реальное основание необходимости причинной связи (Юм считает, что такое основание есть, но нам недоступно), необходимо выяснить основание нашего верования в такую необходимость. И это основание чисто психологическое: привычка, экономия мыслительных усилий (как можно было бы сказать сейчас), готовность человеческого ума индуцировать закон на основании единичного случая (или небольшого числа сходных случаев).
Третье стандартное решение - критическое или трансцендентальное, то есть решение, предложенное Кантом. Мейясу считает, что именно трансцендентальная дедукция категорий (нацеленная как раз на обоснование тех трансцендентальных форм, которые, как утверждалось ранее, можно только описывать) намерена косвенно обосновать необходимость причинной связи и, как следствие, - постоянство законов природы. В соответствии с этим решением условия представления определяют необходимость причинной связи (и ряда других категорий): если бы причинная связь не была необходимой, представление как таковое стало бы невозможным, то есть она является необходимым условием существование сознания и мира, который составляет опыт этого сознания.
Мейясу, отправляясь от логики абсолюта, предполагает, что все три решения скорее излишни, поскольку общим в них является признание истинности необходимости каузальной связи: сама по себе необходимость причинности признается, однако разнятся способы ее обоснования. Но для Мейясу именно этот пункт является ключевым: нет никакого основания искать скрытое основание причинной связи в том смысле, что достаточно предположить, что такого основания просто нет. Только «юмовское априори» тогда имеет значение - из одной причины могут последовать совершенно разные следствия, и эта интеллектуальная истина является тем, что невозможно опровергнуть простым чувственным опытом. Тем более, нельзя строить философию, основываясь на этом чувственном опыте. Однако, в таком случае, Мейясу напрямую сталкивается с Кантом и логикой объективной дедукции категорий, которая выполняется за счет доведения до абсурда: якобы, если допустить отсутствие необходимости причинной связи (не доходя до ее интерпретации и обоснования), мы получим абсурдные результаты. Ставка Мейясу показать, что получение такого абсурдного результата (например, распад представления и его структуры, ожидание неминуемого постоянного изменения законов природы, невозможность удержать какую бы то ни было связность опыта) само покоится на неправомерном рассуждении, которое в классической философии осуществлялось имплицитно и которое неприменимо к структуре фактуального абсолюта.
Опираясь на ряд работ, в частности на исследование Жана-Рене Верна (Jean-René Vernes, Critique de la raison aléatoire, ou Descartes contre Kant, Aubier, 1982), Мейясу вскрывает логику объективной дедукции, которая строится на том, что стабильность (или постоянство) законов обосновывает их необходимый характер. Этот способ выведения, следования (от стабильности к необходимости) носит, предполагается, пробабилистский характер в точном математическом смысле слова. Логика поиска метафизического или скептического (то есть не познаваемого, но предполагаемого) основания причинной связи зависит от того, как именно мыслится «структура возможностей». Исходная юмовская постановка задачи конфигурируется так: априорно мыслимая возможность множества исходов события столкновения бильярдных шаров сталкивается с апостериорной реальностью только определенного числа исходов, что создает проблему в том смысле, что реальность оказывается бесконечно «уже» простой вероятностной игры, так что разрыв между априори и апостериори заставляет искать некоторое основание для причинной связи, которая и накладывает ограничение на исходное (то есть мыслимое в модусе чистой непротиворечивости) множество. Однако само «стремление» поиска основания равнозначно стремлению найти некоторый «подвох» в том случае, если, например, кость игральных костей начинает падать не так, как предсказывают законы (априорные) вероятности, то есть когда сужается именно умопостигаемый горизонт определенного числа равнозначных (то есть безосновных) исходов. В пробабилистской логике и в исчислении вероятностей то, что является в равной мере мыслимым, в равной мере и возможно, поэтому проблема Канта и Юма - это проблема игрока, столкнувшегося с поддельной игральной костью. Классические решения расширяют пробабилистское рассуждение на весь универсум в целом, то есть предполагают, что есть некоторое множество универсумов-возможностей, каждый из которых мог бы выпасть (чего мы не замечаем - хотя, говоря строго, вероятна такая возможность, где мы просто не в силах отследить изменение, переход между универсумами). Что искривляет бросок костей и искривляется ли он вообще?
Решение Мейясу, в целом, состоит в том, чтобы проблематизировать исходные условия юмовской проблемы, то есть распространение пробабилистского рассуждения на весь универсум в целом. При этом речь не идет о том, чтобы оправдать логику «отдельного» случая, или представить данный мир как результат радикального clinamen’а, поскольку такой clinamen сам указывает на физическую необходимость (случай является эффектом физически необходимой природной машины). То есть речь о том, чтобы доказать, что контингентность природных законов недоступна для вероятностного рассуждения. Мейясу, таким образом, стремится доказать, что контингетность законов вовсе не равна их случайности, поскольку к ним сами понятия случая и вероятности не применимы.
Вывод о подобной неприменимости следует из рассуждения, касающегося общих принципов действия теории вероятности. Если опускать некоторые технические подробности, теория вероятности работает только на счетных множествах, то есть должна быть достижима, мыслима сумма конечных исходов, при этом, естественно, чисто эмпирические случаи, где потенциальное число исходов может быть бесконечным, должны приводиться к такой форме (бесконечность, иначе говоря, не отменяет выполнения теории вероятностей). Отсылая к Бадью, Мейясу показывает возможность мышления бытия-как-бытия (то есть абсолюта) в модусе нетотализирумого, указывая, что чисто математическая версия такой логики дана в теории трансфинитных чисел Кантора. «(исчислимое) Целое мыслимого само немыслимо» (p. 144). Если универсум представлять как «целое», то само это целое принципиально не поддается тотализации и как следствие – подсчету, то есть, де факто, не существует в качестве «набора», «целого», на котором может действовать классическая теория вероятности. Следовательно, существует по крайней мере одна аксиоматика (канторовская), в которой «набор» возможностей мыслится в качестве принципиально нетотализируемого (а не просто недоступного нашему мышлению). Априори нельзя доказать, что именно она выполняется для абсолюта, но также нельзя доказать, что на нем выполняется только аксиоматика с возможностью тотализации. Следовательно, пробабилистские рассуждения не могут применяться к абсолюту априори. А выведение необходимости закона (и само возникновение такого эффекта необходимости) обеспечивалось, как считает Мейясу, только тем, что априорная тотализуемость возможного никогда не ставилась под сомнение: «Мы находимся в полном неведении относительно легитимности тотализации возможного, которая напоминала бы тотализацию сторон игральной кости. Подобное неведение, следовательно, вполне доказывает нелегитимность распространения вероятностного рассуждения за пределы уже данной в опыте тотальности» (p. 145). Иными словами, вероятностное рассуждение применимо только к множествам, данным в опыте. А решение проблемы Юма, основывающееся на несомненности необходимости причинной связи (в том числе в кантианском варианте), само основывается на неявном исчислении вероятностей, не применимом к собственно абсолюту.
Таким образом, контингентность отличается от случайности тем, что вторая всегда предполагает тотализируемое множество исходов, тогда как контингентность имеет место тогда «когда что-то случается» (p. 149), выходя за пределы возможного исчисления.
Таким образом решение Мейясу проблемы Юма предполагает устранение самой процедуры, которая привела к ее постановке, в качестве неправомочной. На вопрос «каково основание необходимости причинной связи» единственной верный ответ - «ничто». Нет не только основания необходимости, но и необходимости искать это основание. То, что для скептического аргумента было «эффектом незнания» (Юм принимал то, что есть предельное основание законов природы, однако считал, что мы не можем его постичь), становится как раз абсолютным позитивным знанием: «ничто», которое «обосновывает» стабильность законов (они стабильны в том смысле, что нет нужды в каком-то дополнительном основании, которое бы их стабилизировало), является неким «развернутым ничто». Однако в этом рассуждении также можно заметить несколько тонких мест. Прежде всего, оно оставляет без внимания сам вопрос - а почему, собственно, возникло неправомочное применение пробабилистского аргумента? Иными словами, если спекулятивная позиция - это преобразованная позиция Юма (нет никакого основания для необходимости причинения, а не только мы не знаем этого основания), она оставляет без внимания саму юмовскую новацию - то есть переход к генезису представления о необходимости причинной связи. По сути, аргумент Юма относительно психологического механизма в спекулятивном реализме должен приниматься без изменения: усвоение и распространение пробабилистского рассуждения является следствием организации опыта, но этот опыт уже не является трансцендентальным (возможность трансцендентальной конструкции опровергается Мейясу именно на том основании, что она базируется на имплицитном неправомерном «применении» к абсолюту того, что может применяться только к данностям опыта - иначе говоря, сама трансцендентальная конструкция, по мысли Мейясу, является не чем иным, как трансцендентальной иллюзией, то есть распространением за пределы опыта, на вещь в себе, того, что только опытом и ограничивается, однако сама структура категорий как необходимых категорий, в таком случае, формируется лишь некоторой «петлей» трансцендентальной иллюзии, которая, однако, не объясняет формирование самой этой структуры «внутри опыта»). Иначе говоря, «спекулятивное решение» выбивает догматическое и скептическое основание, однако устраняет и трансцендентальную логику основания применимости категорий, оставляя для точной науки только возможность развертки абсолюта в позитивное знание, что представляется достаточно сложной проблемой.
Еще более интересно, что в случае решения проблемы Юма Мейясу не доказывает того, что абсолют требует определенной аксиоматики, но лишь предполагает, что мы не можем знать, какая именно аксиоматика выполняется, тем самым закрывая возможность априорного выполнения одной из них. То есть в данном случае мы имеем не самоограничение абсолюта, а применение стандартного корреляционистского (и скептического) аргумента, продолжение Юма, а не выход за пределы его конструкции.
Это создает определенное напряжение в общем проекте Мейясу (который в самом начале задается необходимостью объяснения возможности математизируемого знания об абсолюте как не-зависимом от мышления). Последняя глава книги «Реванш Птолемея» посвящена проблематике «ложного» коперниканского поворота Канта, против которого Мейясу, собственно, и развертывает всю свою логику. Разрыв между «мыслью» и «бытием», проявленный проблемой «ancestralit?», является лишь частным случаем нововременного построения науки в целом (то есть разрыва, который Мейясу называет диа-хронией), которая предполагает математизированное изучение реалий, не имеющих никакого отношения к опыту. Именно такое «не-отношение» является, по существу, условием научности как таковой. Отсюда и новый модус математизируемости: математизируемость стала условием гипотетического постижения того сущего, что не зависит от опыта, в котором это сущее познается. Этот момент принципиально отличает математику Нового времени от древней математики - с одной стороны, математика перестала мыслиться в модусе абстракции, как у Аристотеля (напротив, она стала выражать именно то, что имеет отношение к первичным качествам), с другой стороны, она перестала отсылать к модусу «необходимого»: она описывает принципиально контингентное, однако описывает его абсолютно. «Абсолютность математики означает следующее: возможное фактуальное существование за пределами мысли, а не необходимое существование за пределами мысли» (p. 162).
Весь point ситуации заключается не в вопросе о том, насколько выведенный Мейясу абсолют поддерживает такую структуру знания (и насколько он восстанавливает, например, онтологию картезианского типа), а в том, что, по мысли автора, философия Нового времени (прежде всего в кантианстве и посткантианстве) принимает прямо противоположный оборот, оказывается противо-коперниканской контрреволюцией. Почему вопрос «как мысль может мыслить то, что действительно может быть тогда, когда нет никакой мысли» (p. 168) был поставлен философией вне закона, или же был признан праздным вопросом? В чем причина «кантовской» катастрофы, то есть своеобразного извращения, намеренной переинтерпретации в корреляционистском духе абсолютистских суждений науки? Кантовская философия как ответ на вызов Юма представляется следствием некоторого фундаментального заблуждения, иллюзии (leurre): разрушение галилеевской наукой метафизики, представление всего сущего как контингентного и эмпирического, оставило для философии только возможность осуществления претензии на поиск «условий» универсализируемого знания, но не самого этого знания. Подобный ход, в трактовке Мейясу, обеспечил смешение двух моментов - конца метафизики и отмены абсолютов (тогда как современная наука как раз действовала в режиме абсолютизации).
Соответственно, повторение кантовского вопроса («как возможна математизированная наука…») в его спекулятивной версии требует абсолютизации математики без ее превращения в элемент необходимого метафизического знания: нужно показать, каким образом структура абсолюта предполагает не только абсолютную действенность некоторых логических законов, но и математическую абсолютизируемость, предполагающую, что любое математическое суждение является не абсолютно истинным, но абсолютно возможным. Но само по себе это еще не обеспечивает решения кантовской проблемы: Мейясу в самом конце своей книги отмечает, что вторая задача - это не доказательство абсолютизируемости математики, а спекулятивное решение проблемы Юма, которое пока получило лишь частичное решение (за счет закрытия возможности априорного применения пробабилисткого рассуждения). Необходимо также установить, что стабильность законов природы (уже не требующая их необходимости) является абсолютизируемой, а для этого надо, как минимум доказать абсолютную и необходимо безусловную значимость определенной теоремы (которая сама доказывает нетотализируемость возможностей). Иными словами, теперь нужно доказать, что определенная аксиоматика имеет абсолютное значение, а не только - в силу самого своего наличия - закрывает возможность априорного применения другой аксиоматики как единственной. Две этих объемных задачи Мейясу оставляет без решения, приводя их в качестве необходимых направлений будущей работы, которая должна заново открыть возможности, намеченные действительно коперниканским переворотом.
Возражения и опровержения
Довольно быстро после выхода «После конечности» книга попала в чрезвычайно насыщенное полемическое поле. Здесь я приведу только некоторые факты полемики (не углубляясь в их содержание), добавив в конце несколько собственных аргументов, как представляется, до сих пор не упоминавшихся.
Одним из наиболее ранних ответов на работу Мейясу является текст Рэя Брасье «Загадка реализма», в котором, в частности, оспаривается употребление термина «интеллектуальная интуиция» у Мейясу. Вопрос в том, что интеллектуальная интуиция в традиционном смысле предполагала совпадение интуиции с вещью в себе, что было возможно только для божественного интеллекта. У Мейясу, однако, реальность, «интуируемая» в интеллектуальной интуиции достигается за счет некоторого рассуждения (признаваемого ангипотетическим), а не за счет сотворения объекта интуиции. Реальное признается за то, что выходит за пределы оппозиции «находимого» и «создаваемого». Однако ясно, что реальная «внешность» радикальной фактичности отличается от метафизической реальности или же кантовского гипотетического «intellectus archetypos». Брасье же отстаивал положение, согласно которому любое реальное (в смысле entity) требует полагания, и потому термин «интеллектуальная интуиция» не может использоваться для описания работы Мейясу. Эта линия полемики вместе со многими другими получила развитие на состоявшемся в 2007 г. коллоквиуме «Спекулятивный реализм», транскрипт которого был затем издан в журнале Collapse, vol. III. Одновременно развернулись достаточно острые споры в ряде известных философских блогов, в том числе с участием анонимных комментаторов, пытавшихся оспорить возможность выйти из круга корреляции, предложенную Мейясу. Пример можно увидеть в блоге Anaximandrake, автор которого неизменно защищает позицию Мейясу.
Последняя по времени волна критики и защиты Мейясу обозначилась после обширной рецензии Питера Холварда (Peter Hallward) в журнале Radical Philosophy (November/December 2008). Холвард выписал достаточно большое количество аргументов против проекта Мейясу в целом, не касаясь, однако, центральных пунктов его аргументации. К числу претензий Холварда относились, в частности, смешение у Мейясу метафизической необходимости и натуральной (или фактической), карикатурность образа «корреляционизма» (для которого, как будто, проблема «диа-хронических» суждений не представляется настолько неразрешимой), неразличение фундаментальной математики и прикладной, а также невозможность развития конкретной философской теории изменения на основе общей логики абсолюта Мейясу, который допускает любые изменения, которые не противоречат ряду положений, выводимых за счет техники «самоограничения». Особый резонанс вызвала политическая критика со стороны Холварда (зависимая от его собственного проекта «трансформационного материализма», отталкивающегося как от спекулятивного реализма Мейясу, так и от материализма Бадью - «Логики миров» которого были не так давно отрецензированы Холвардом в «New Left Review»). Многие полемисты, в том числе автор блога Anaximandrake, признали частичную нерелевантность аргументов Холварда. К числу часто цитируемых ответов на рецензию Холварда следует также отнести текст Натана Броуна (Nathan Brown), где автор обвиняет Холварда в неправомочном расширении области применимости аргументов Мейясу.
Возможно, оживления споров относительно спекулятивного реализма и его отличия от
спекулятивного материализма следует ожидать после завершения конференции, упомянутой в начале этой рецензии. Помимо чисто фактических условий, обеспечивших импакт работы Мейясу, следует отметить, что главным образом он был определен двумя составляющими – тем, что автор де факто работает строго за счет рассуждения, а не за счет «создания концептов», и тем, что вопросы, им поставленные, охватывают чрезвычайно широкий спектр философских стратегий, которые неожиданным образом оказываются сближены в рамках достаточно строгой логики.
Последней, однако, можно выдвинуть некоторые общие возражения, выходящие за пределы отдельных аргументов, уже преложенных критиками. Наибольшее количество вопросов вызывает сама «техника» перехода от движения внутри корреляционного круга к «абсолюту». В действительности, отвечая «скептику» тем, что именно аргумент о принципиальной возможности «быть другим» или возможности того, что «все на самом деле совсем иначе» предполагает абсолютное различие бытия-в-себе и бытия-для-нас (или пары терминов en soi/pour soi), Мейясу «сохраняет» систему скептической аргументации, то есть утверждает ее именно в абсолютном смысле. Дело не в том, что против Мейясу можно использовать тривиальный довод: «раз предлагается “спроецировать irraison в саму вещь” [p.111], у нас всегда будет вопрос относительно того, что дает возможность для такой “проекции”» (или, в иной форме: «именно скептик предполагает различие вещи в себе и для-нас абсолютным, но в общем вовсе не принципиальная возможность их контингетного различия и абсолютного отличия является основанием для проведения самого различия, следовательно, ничто не обосновывает выведения абсолюта из скептической аргументации»). Более интересен тот момент, что фактически Мейясу вскрывает «догматическую» рамку, которая формирует само корреляционное отношение, декларативно накладывая на нее запрет (начиная с кантовской критики «догматической» метафизики). Например, вполне метафизическим является представление о неких двух «сущностях» - мышлении и бытии, которые неким образом входят во взаимодействие (например, в форме взаимодействия научной деятельности и того или иного объекта познания). Абсолют Мейясу – это именно рамка критического рассуждения, лишенная того, рамкой чего она являлась, то есть абсолютизированное некритическое рассуждение, которое обосновывало якобы критические различия и все работу. Это, кстати, не является настолько уж новым замечанием – по сути, с самого начала, базовое различие вещи-в-себе и для-нас встретило критику, поскольку понятие «вещи-в-себе» как некоей причины аффицирования представлялось некогерентным (тому же Гегелю). Однако, как верно показывает Мейясу, попытки сделать «критику» более критичной и отказаться от некоторых «догматических» остатков привели к созданию идеалистической корреляционистской метафизики (немецкий идеализм, а затем и некоторые течения современной философии, вплоть до постмодернизма). Трансцендентализм столкнулся с проблемой – либо явный или неявный идеализм, в действительности зачеркивающий достижения в вопросе «фактичности», либо эмпиризм и антропологизм, отказывающийся от проблематизации условий опыта как трансцендентальных условий, и, в конечном счете, от различия онтического и онтологического (замечу, что критики критиков Мейясу указывают на то, что рассуждение Мейясу является онтологическим в том смысле, что простые эмпирические аргументы относительно, например, явного наличия локальных законов природы в случае той же биологической эволюции никоим образом не затрагивают онтологического уровня, относительно которого можно утверждать, что эти законы могут произвольно и безо всякой на то причины измениться в любое мгновение).
Итак, Мейясу работает над расшатыванием самой этой структуры, которую нужно «опрокинуть» в сторону абсолюта, причем абсолюта принципиально неметафизического (не-сущности). Одно, хотя и достаточно общее возражение относительно логики движения заключается уже в том, что демонстрация превращения любого корреляционистского рассуждения в скептическое, которое и оказывается «последним пунктом», где корреляционизм «дает брешь», которая как раз и оказывается абсолютом, была бы достаточно сложной. «Стандартный корреляционизм» как раз нацелен на такое изучение «условий возможности опыта», которое делает вопрос о различии вещи-в-себе и для-нас излишним. Например, та же феноменология не является «скептицизмом», и ни в коем случае не может привести к аргументу о том, что «все может быть иначе»: логика описания эйдетических сущностей сама выявляет необходимости, которые, однако, уже не имеют ничего общего с метафизической или чисто логической необходимостью. В действительности, Мейясу как раз систематически оставляет без внимания саму содержательную «поверхность» условий, или границу между «для-нас» и «в-себе», хотя как раз она-то и может служить основанием для различия этих категорий (вероятно, достаточно слабое внимание к непростой теме трансцендентальных условий, которые сами не являются ни для-нас, ни «в-себе», как и сама эта терминология, восходят в данном случае к Сартру – через Бадью). Ситуация «фактичности» или «фактической данности» редуцируется до скептического аргумента, который, однако, сам может выступать лишь в качестве некоторого «метафизического» использования, mis-use некоторых вариантов трансцендентальной логики. В подобной редукции «фактически данные» и «не дедуцируемые» структуры данности оказываются не более, чем границей для-нас/для-себя, которая, однако, фиксируется не в качестве границы, а именно в качестве произвольной разницы, абсолютно неопределимого различия, которое, в соответствии с догматическим и скептическим рассуждением, может быть совершенно любым. Т.о. ясно, что Мейясу может замкнуть всю логику корреляционизма на свой «вывод» абсолюта только при условии ее замыкания на скептическое рассуждение, с чем, однако, вряд ли согласится любой корреляционист.
Что еще значимее, сам переход от «возможности посредством незнания» к «позитивному абсолютному знанию» ставит достаточно нетривиальный вопрос перехода от оперирования трансцендентальной логикой к работе с обычной логикой (и посредством нее). Попросту говоря, оставаясь поначалу в рамках скептического аргумента, Мейясу неявно предполагает и использует «закрытие», «прерывание» стандартной логики эссенциального толка (например, рассуждение о мире как некоторой вещи, возможность перенесения онтических представлений на спекулятивные и т.п.), однако после «прохождения» абсолютного порога и при постулировании абсолютной контингентности его язык и рассуждение наводняется «вещами», «миром», «законами» и т.п., то есть, по каким-то причинам, оказывается, что вполне классическая логика применима «после» критического преодоления самой критики. Это особенно заметно в пункте «доказательства существования вещи-в-себе». Проблема его уже в том, что «абсолют» Мейясу всегда предполагает различие вещи-в-себе и «для-нас», является постулированным абсолютом этого различия, поэтому доказательство «из него» существования вещи в себе носит не только тавтологический, но и чисто логический, рассудочный характер: действительно, если «вещь-в-себе» не существует, то не может существовать и «абсолют» (к этому и сводится рассуждение, замечательным образом предполагающее возможность исключения, как я показал, самих терминов «абсолют» и «контингетность» и возможность «выведения» существования из самого понятия «существование»). Иными словами, при «переходе» к абсолюту, даже если оставить проблему правомочности такого перехода (этот вопрос вызвал активную полемику, но если говорить серьезно, ни аргументы самого Мейясу, использующего технику, близкую к отрицанию «перформативных» противоречий, ни аргументы его сторонников, настаивающих, как автор блога Anaximandrake, на несомненности «разрыва» «корреляционного круга», не являются стопроцентно убедительными), возникает проблема «проекции» уже другого порядка, а именно, проекции «абсолюта» на мир (а именно такая неявная проекция позволяет Мейясу отождествлять полученного абсолюта с «любым законом в этом мире», утверждая принципиальную контингетность последнего), как и проблема «реанимации» обычной «логики», которая вся была завязана на принцип достаточного основания и которая воспроизводится в системе «самоограничения» (по сути, любое доказательство «от противного» не может не отсылать к стандартным логическим принципам непротиворечивости и достаточного основания).
Взять, например, тезис об абсолютном (а не только «для-нас») выполнении принципа непротиворечивости. Не говоря уже о том, что доказательство Мейясу сталкивается с формальной аксиоматикой паранепротиворечивых логик (и в таком случае совершенно ясно, что здесь можно было бы применить технику, опробованную в случае с проблемой Юма – если есть некоторое множество формальных аксиоматик, мы не можем постулировать выполнение на абсолюте только одной из этого множества), оно неявно предполагает некоторые «натуральные» возможности и невозможности, как раз формализуемые классической логикой и даже просто «порядком рассуждения». Например, можно было бы предположить, что абсолют мог быть противоречивым в определенный «момент», переходя в следующий момент в «непротиворечивое состояние», то есть реализовывал бы возможность, в некотором смысле, «высшую» по отношению к простому произвольному движению в плане чистой контингетности (не говоря уже о том, что само доказательство «непротиворечивости у Мейясу, как, кстати говоря, и классическое «нельзя в одно и то же время говорить о вещи то, что она есть, и что она не есть…» отсылает к натурально понимаемому времени как времени, в каждое из мгновений которого предикаты «одной» вещи не могут быть противоречащими друг другу, что само по себе является недостоверным при переходе на «онтологический» (и спекулятивный) уровень – и это несмотря на тезис о некоем фундаментальном времени как хаосе, способном уничтожить любой закон и закономерность). Т.о. проблемы с «продлением» (за счет «самоограничения») логики абсолюта после «разрыва» корреляционного круга начинаются уже с момента проецирования абсолюта на «мир» (который, как ясно по части, посвященной проблеме Юма, ставит некоторые проблемы относительно самого существования такого абсолюта), что вполне естественно: различие бытия-в-себе и бытия-для-нас, взятое абсолютно, делает невозможным соблюдение различия онтологического и онтического, поэтому критики, которые пытаются опровергнуть Мейясу за счет примеров об «относительной» стабильности или наличии законов, сами неявно следуют его логике, которая позволяет смешивать абсолют с натурально понятыми вещами и законами, причем, что самое интересное и что показывает анализ проблемы Юма, это смешение оказывается чисто формальным, не влияющим ни на концепцию «вещи», ни на понимание «законов» в этом эмпирическом мире. Неизбежное смешение абсолюта с «миром» опыта подобно смешению масла с водой. Иными словами, Мейясу выполняет операцию, которая противоположна структуре «трансцендентальной иллюзии» у Канта: если последняя предполагала перенос на «вещь-в-себе» и «абсолют» категорий опыта, то Мейясу как раз переносит постулированный абсолют на предметы опыта, создавая достаточно интересную смесь абсолютного и эмпирического, внутри которой проходит лишь чисто «интеллектуальное» различие: наше понимание законов природы никоим образом не меняется (вернее сказать, мы так и не понимаем, как возможно математизированное естествознание – будет даже точнее сказать, что мы – в отличие от Мейясу – реально не понимаем, что мы могли бы «понять» случае позитивного разрешения проблемы), однако все они нагружаются дополнительным знаком «контингентности» (само это постоянное повторение фраз о необходимой контингентности «законов» природы и природы как таковой несколько напоминает «трансценденталистскую» нагрузку, предполагающую возможность включения догматических суждений в структуру познания за счет минимальной «ре-интерпретации»).
Все это можно понять в том смысле, что проект Мейясу носит «пара-догматический» характер. В действительности, и «современная наука» с одной стороны, и трансцендентальная логика с другой, отказываются от метафизически понимаемого «закона достаточного основания», не прибегая, однако, к «чистому описанию». Ключевым моментом является то, что «фактичность» трансцендентальных условий, вопреки Мейясу, не закрывает возможность трансцендентальной дедукции, сведение которой к пробабилисткому рассуждению также остается под вопросом. Несомненно, проект Канта предполагал возможность содержательной дедукции категорий, а не простого вероятностного обоснования того, что при их отсутствии само представление в сфере сознания стало бы невозможным. Как ни странно, «достаточное основание» сохраняется в качестве своего «негатива» именно в скептическом рассуждении, которое «опровергает себя» «контингетным абсолютом». Irraison – именно изнанка принципа достаточного основания, ставшая принципом, который должен получить содержательное наполнение. Однако этот принцип не является «иным» по отношению к традиционной метафизике, и именно поэтому он с такой легкостью стирает различия, выстроенные внутри трансцендентальной логики. Классическая фактичность и «конечность» накладывали запрет на онтологическое доказательство именно за счет того, что существование обязательно должно предполагать «встречу», данность в опыте, факт того, что факт «состоялся». Но строгая линия этого рассуждения находит противника в скептике, который, не обращая внимания на конкретные способы «случания», «сбывания» факта, утверждает, что там, где всё есть факт, нет ничего необходимого. Если встреча есть, то она может и не состояться. Абсолютная контингентность – это именно абсолют «не-встречания» («все может быть иначе»), сопровождающего всякий реальный факт. Irraison оказывается «истиной» принципа фактичности, полученной за счет применения эссенциальных логик, которые принципиально отказывают существованию в какой бы то ни было необходимости, оставляя лишь «контингентность». Естественно, можно сказать, что логика контингентности вполне позитивна, однако это не меняет того, что irraison фактически получает эссенциальную развертку (о чем уже говорилось), оставляя без внимание трансцендентальное открытие существования как данности и случания и, соответственно, отчасти возвращаясь к метафизическому абсолюту (основанием которого является отсутствие достаточного основания). Рассуждая о «гипер-хаосе» нельзя не применить вполне обычную логику, не задаваясь при этом вопросе о том, насколько она применима. Иначе говоря, в действительности, инстанция «гипер-хаоса» или контингентного абсолюта должна была бы потребовать совершенно специфического дискурса, введение которого представляется отдельной и неразработанной у Мейясу проблемой.
Несомненно, главным аргументом Мейясу против любой попытки «сопротивления» со стороны корреляционизма (хотя здесь речь идет не совсем об этом), будет заключаться в том, что стандартная позиция корреляционизма не только не может выполнить поставленную задачу описания условия возможности научных высказываний диа-хронического (и «ancestral») типа, но и сама оказывается внутренне некогерентной. Однако вопрос в том, насколько контингентный абсолют Мейясу способен выполнить возложенные на него задачи (в отличие, например, от нелживого бога Декарта). Даже при условии доказательства того, что он предполагает строгое выполнение трансфинитной логики, закрывая т.о. пробабилистский генезис «проблемы Юма», остается проблема дедукции «стабильности», которая и определяет в конечном счете возможность эмпирической физики. Говоря более в общем, Мейясу в пункте «реванша Птолемея» попадает в ситуацию, стандартную для «трансцендентальной логики»: некоторое догматическое образование представляется следствием иллюзии, однако вскрыть эту иллюзию без использования инструментария, определяемого этой иллюзией (например, догматической логикой) представляется невозможным (этой проблеме посвящены некоторые из частей EuroOntology). Возможны парадоксальные конфигурации: образование самой «критической философии» как трансцендентальная петля без трансцендентального механизма. В любом случае, проблема, которую формулирует Мейясу («как мысль начинает мыслить то, что существует абсолютно, то есть безо всякого отношения к самой мысли») демонстрирует вопрос, выходящий далеко за пределы собственно «научных суждений», то есть проблему формирования «догматических» суждений, оказывающихся ключевыми для трансцендентального аппарата. Но вряд ли продуктивно, выявив «догматическую рамку» скептического рассуждения, абсолютизировать сам ее принцип. Что же касается собственно «научных суждений», сам принцип работы которых заключается в том, чтобы они понимались «буквально», даже доказательство абсолютности математизируемости («все что является математизируемым, является абсолютно возможным») требует экспликации «математизируемых суждений» (например, являются ли они вообще суждениями?) и, в пределе, ставит вопрос о возможности философии как таковой решать классические гносеологические задачи: в интерпретации Мейясу ответ Канта был как раз реактивным, защитой философии после крушения метафизики, но в не меньшей мере такая реактивность может быть приписана и самому Мейясу. Гораздо более радикальным представлением является та посылка, согласно которой само познание принципиально не может руководствоваться «условиями возможности», даже если они выписаны с позиции абсолютизируемой инстанции.
Все эти критические замечания не означают того, что проект Мейясу не релевантен той ситуации, которая сложилась в теоретической философии и история которой охватывает уже более двух веков. Напротив, неявно он демонстрирует узел проблем, которые остаются скандальными, причем не только в столкновении с наукой. После конечности Мейясу, благодаря фактуальности, которая сама не может быть фактом, то есть является единственной необходимостью, обнаруживает абсолют, неявно скрывавшийся за трансцендентальными подмостками. Однако тем самым пропускается другая возможность – возможность того, что условия конечности сами являются конечными. Когда Мейясу утверждает, что условия опыта и структуры мира могут беспричинно измениться и стать совсем другими, он однако постулирует саму эту возможность как простую логическую возможность, пусть и абсолютную. Мы, как он предполагает, не имеем не только реального опыта изменения законов мира, но и опыта изменения «условий опыта», хотя такое изменение и абсолютно возможно. Легко понять, что обнаружение «дрейфа условий опыта» вместе со всеми возмущениями, которые оно могло бы внести в стандартную трансцендентальную логику, является, в какой-то степени, даже более спекулятивной задачей, чем обнаружение «фактичности», которая сама не может быть фактичной (т.е. фактом). Это ясно уже из того, что, как следует из определения, любой опыт определяется его условиями, которые принципиально не изменяются. Отсюда же следует и то, что обсуждение «пробабилистских» наблюдений за «миром», который демонстрирует что-то вроде «подвоха» (мы не замечаем изменений законов мира, природы и структуры восприятия, хотя вроде бы они и должны происходить, не имей они никакого метафизического основания), обрывается задолго до введения Мейясу «трансфинитных» техник. В самом деле, «изменение» условий, абсолютно постулируемое Мейясу, принципиально не может быть зафиксировано в том или ином эмпирическом опыте. «Агент» такого изменения был бы подобен Марвину Флинну из романа Р.Шекли «Обмен разумов», который не может фиксировать изменения, переключение регистра, несмотря на то, что для некоего внешнего наблюдателя (которого не существует иначе как в литературной реальности) изменения весьма существенны. Если «все» меняется онтологически, то не остается никакого мерила для этого изменения, и соответственно, «дрейф» условий остается некоторым скрытым, экстратемпоральным и экстраэкспериментальным изменением. Вопрос «потенцирования» трансцендентальных условий, то есть превращения условий конечности в конечные условия, требует, таким образом, разработки техники определения подобных «дрейфов», которые противоречат любому стандартному описанию – от кантовской аналитики до деконструкции. Но, в отличие от проекта Мейясу, который выбирает другое направление реформирования «корреляционизма», разработка этого вопроса, возможно, позволила бы не возвращаться к «метафизическому» проецированию абсолюта, одновременно принципиально иначе распределяя такие онтологические инстанции, как «вещь-в-себе» и «для-нас». Но это, конечно, был бы действительно иной ход мысли и принципиальной иной проект, который вряд ли мог бы руководствоваться восстановлением справедливости по отношению к науке, нарушенной новоевропейской философией.[1] Первоначальным знакомством с контекстом «спекулятивного реализма» я обязан Инне Кушнарёвой.
Дата публикации: 24.04.09
Проект: Планка
© Кралечкин Д. 2009