
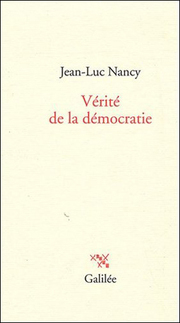
[Jean-Luc Nancy, Vérité de la démocratie, Galilee, 2008, 62 p.]
Изданная в 2008 г. (в сорокалетие 68-го) маленькая книжка Ж.-Л. Нанси «Истина демократии» по своей краткости и экспрессивности образует нечто среднее между гонзо-журналистикой 60-х и некоей «энцикликой», оглашающей истину демократии, то есть истину того, что не может быть дано никаким авторитетом. Тринадцать главок –тринадцать упражнений в теоретическом мышлении «демократии» с маленькой буквы, и тринадцать «сводок» с места ушедшего события, составить репортаж с которого было бы невозможно.
Гонзо-маньеризм Нанси не случаен – книга (образующая также основу для множества лекций автора в разных точках мира) контрапунктирована «68-м», событием, которое получило свое номерное имя (по модели 1917 или 1789), став синонимов тех «великих возможностей», которые, собственно, и открыла демократия – которую саму понадобилось – в условиях некоторого разочарования ее объективно-историческим ходом после Второй Мировой – открывать заново. Открывать, прежде, всего «духовно» (присутствие термина «дух» в книге Нанси весьма показательно) – как дух «коммунизма» и как дух демократии, которые становятся равными друг другу в некоей духовной эквиваленции.
Общая логика Нанси достаточно проста, она нисколько не изменилась с «Непроизводящего сообщества». Но само введение события и его имени многое меняет. По сути, «Истина демократии» – это добавление к «Непроизводящему сообществу» одного имени и одного «примера» – во всей двусмысленности «примеров в философии».
68-й – это тот момент, когда мысль, которая «отворачивалась от демократии», стала вдруг невозможной. Мыслить до 68-го– это, прежде всего, мыслить в некотором уклонении от демократии (Сартр), одновременно предлагая какие-то «иные варианты», сопротивляющиеся как «реальному коммунизму», так и буржуазной демократии. Однако, 68-й, по мысли Нанси, сам стал инсталляцией «мысли демократии», то есть реального осуществления того, как ее можно мыслить. Причем все последующее движение, которое мы наблюдаем по сей день, можно представить как именно растворение этой мысли, возвращение к неким более архаичным образцам «нормализующей и управляющей демократии», когда последняя рассматривается как всего лишь «меньшее из зол». Пока демократия оставалась всего лишь маленьким злом, мыслить ее было невозможно.
Именно структуралистская и ницшеанская мысль сделали возможной «демократию переоценки всех ценностей» или выхода из демократического нигилизма, где все равно всему, потому что ничего не значит и потому что «всё остальное» еще хуже, чем демократия. С 68-м «ценности» и «цели» устраняются в пользу актуального «превосхождения человеком человеческого» (Нанси на разные лады повторяет формулу Паскаля «Человек бесконечно превосходит человека», спаривая ее с вынесенным в эпиграф тезисом Руссо «Если бы существовал народ богов, он управлялся бы демократически» и с представлением Маркса о самопроизводстве человека). Ницшеанская демократия 68-го (то есть то событие, в котором дана истина демократии) отменяет субъекта западной метафизики в пользу сообщества как «непроизводящего сообщества» (или сообщества разделения того, что невозможно калькулировать), а власть политики – в пользу власти «желания», которое однако нельзя понимать психологически:
«В этом отношении значим не «анти-авторитаризм» или освободительный и либертенный смысл, приписываемый, для похвалы или упрека, и не без оснований, 68-му; значим лишь некий смысл такой истины: «власть» (autorité) не может определяться никакой предшествующей (институциональной, канонической, нормированной) санкцией (au torisation) , она может лишь происходить из желания, которое выражается в ней или в ней себя признает. В этом желании – ни грана субъективизма или, тем более, психологизма… Если у демократии и есть смысл, он должен быть таким: невозможно обладать властью, которую отождествляют, отправляясь от места или порыва, отличных от места и порыва желания – воли, ожидания, мысли – в которых выражается и признает себя подлинная возможность быть всем вместе, всем и каждому по отдельности…» (pp. 28-29)
Попытка Нанси расшифровать собственные термины и раскрыть истину «ницшеанской» демократии, показывает, что отстраниться от kairos’а 68-го (p. 32) не так-то просто. Собственно, где еще, кроме Парижа-68 и, возможно, Вудстока мы можем найти современное немессианское пришествие демократии, означавшей «приход и уход схватывания настоящего как присутствия и со-присутствия возможностей»? Возможности – это именно «потенциальности», которые, однако, не требует реализации, и, одновременно, не требуют оплаты. Демократия означает отказ от такой называемой «проектности» (68-й – это имя закрытия «времени картины мира», в хайдеггеровском смысле – и со всей системой «горизонтов», «целеполаганий» и т.п.). В каком-то смысле, хотя Нанси этого не говорит, 68-й стал «точкой перегиба» Капитала: когда его неуничтожимая возможность, чистая потенция, была присвоена и прочувствована как утверждение, которое совершенно не обязательно как-то реализовывать. Демократия – это единственная актуальная возможность, которая не требует реализации и за котрую не надо платить. Она дана, но не как данность, а как потенциальность, которая не требует «движения в будущее», скорее как некое замирание предельной потенциальности. Метафизическая оппозиция между реальным и возможным внезапно была сдвинута в пользу возможного, утверждения некалькулируемого и несчетного, возможности, которая дана здесь и сейчас, оказываясь, однако, инсталляцией бесконечного в конечном.
Нанси пытается не выстроить некую «метафизику демократии», но скорее обозначить структуру «демократической политики», исходя из «события 68». И это место определенно именно тем, что демократическая политика, по сути, означает «отделение» политики, отграничение пространства «самопревосхождения» человека или того «непроизводства», которое важно для сообщества и которое является его «сутью». Демократия – удержание границы неэквивалентного и необмениваемого.
Это, однако, порождает отдельные проблемы, поскольку современная демократия – это именно режим, выстроенный на производстве и обмене, в конечном счете – на том, что отрицает разделение несчетного именно за счет его обмена через некоторый эквивалент, например деньги. Нанси за демократию, но против того, чтобы механизмом демократии были деньги. Однако деньги и обмен уже не могут критиковаться с позиций, которые могли бы предполагать, что следует вернуться к недемократической структуре власти и политики, то есть к той ситуации, когда «смысл» сообщества и сингулярных существований мог бы подводиться под некое «единство» (Нации, Проекта, Короля и т.п.). Деньги уничтожили, в том числе, и подобное подведение, однако, в каком-то смысле, не дошли до позитивной системы различий, которые имели бы чисто демократический характер. Демократия стала – реально – системой всеобщей эквивалентности, однако демократическое событие открыто возможность различия, которое не порождает неравенства и которое только и может быть реализацией равенства. Поэтому демократия – это удержание и утверждение различий, которые не порождают неравенств и не экономизируются в качестве них, т.е. эгалитарная аристократия, предполагающая отделение политики от собственно «разделения (партажа) некалькулируемого»:
«Судьба демократии связана с возможностью некоего изменения парадигмы эквивалентности. Введение некоей новой неэквивалентности, которая, конечно, не будет ни неэквивалентностью <неравенством> экономического господства (основанием которого остается эквивалентность), ни неэквивалентностью феодализмов и аристократий, ни неэквивалентностью режимов божественного избрания и спасения, ни неэквивалентностью духовности, героизма или эстетизма, – вот наша задача… речь идет о том, чтобы найти, завоевать смысл оценки, оценочного утверждения, которое придает каждому оценивающему жесту – решению о существовании, произведении, облику – возможность не измеряться заранее некоей уже данной системой, а быть, напротив, каждый раз утверждением «ценности» – или «смысла» – уникального, несравнимого, незаменимого….» (pp. 45-46).
Собственно, политика, которая обеспечивает условия для неэквивалентного утверждения, и является демократической. Но сама она ни в коем случае не может быть тем, что является этим утверждением. Нанси перечисляет всевозможные предикаты утверждения: оно может быть «экзистенциальным, художественным, литературным, мечтательным, любовным, научным, мыслительным, праздным, игровым, дружеским, гастрономическим, урбанистическим…: и политика не может подводить под себя ни один из этих регистров, она дает им место и возможность» (p. 48). В противном случае она перестает быть демократической политикой. Иными словами, демократическая политика состоит в ограничении самой себя для предоставления места, оформленного для бесконечности (или «под бесконечность»). И это место – по сути, – некая «нормальная жизнь», как если бы она была свободна от нужд и потребностей, то есть «нормальная жизнь», в которой политика, в общем-то, не нужна.
Несмотря на сопротивление текста Нанси стандартным политологическим или философско-политическим теориям, сам выбор имен для «утверждения» (как раз и составляющего ядро ницшеанской демократии), весьма показателен: утверждение и его серия, будучи, конечно, принципиально открытыми, перечисляются, однако, через вполне «узнаваемые» термины, число которых вовсе не бесконечно (ср. подобное перечисление на другой странице: «…искусство или религия, любовь, субъективность, мышление…» (p. 40)). Нанси сторонится традиционных теорий «гражданского общества», поскольку они предполагают, с одной стороны, производство индивида как эквивалентной и обмениваемой единицы (рабочей силы и т.п.), а с другой – поскольку они легко представляют все «гражданское» пространство в качестве буржуазно-экономического. Однако само выстраивание политики как отделение ее самой от «бесконечности» (или многообразия) того, что осуществляется в сообществе, является, несомненно, постоянным мотивом самых разных политологический теорий Нового времени. По сути, мы имеем некоторый парадокс, выписанный у Нанси в явном виде: новоевропейская политизация означает яростное сопротивление формуле «всё есть политика» (на которую набрасывается и Нанси, объявляя ее некоей «нео-теологией» в дурном смысле слова, с которой надо бороться). Такое сопротивление может объединить неолибералов и анархистов, коммунистов и монетаристов. Поэтому «Демократическая политика отказывается изображать саму себя, она позволяет умножение утверждаемых, изобретаемых, сотворенных, придуманных фигур…» (p. 49).
В этом смысле, демократия – это не необходимый «контейнер» «гражданского общества», а рефлексия последнего: процедуру отделения «гражданского общества» (поддерживаемую исторически экономической и социальной структурой последнего) от сферы «политического» и само-конструкции его в таком отделении Нанси опрокидывает на само это гражданское общество, стирая само его имя. Этим стиранием в гражданском обществе («седиментированном» объекте современной демократии) проводится различие, по эту сторону от которого остается общество как общество обмена и, следовательно, необходимости (аналогичным образом «всего лишь досадной необходимостью» могло показаться государство для классического буржуазного общества, также стремившегося стереть политику до нуля), тогда как по ту сторону – сообщество разделения некалькулируемого. Вопрос лишь в том, как именно удерживается граница, и что обеспечивает демократичность демократии, если последняя оставляет для себя почти трансцендентальную фигурацию «представителя места» и «позволителя умножения». И чем является «отрефлексированное гражданское общество», если не богемой? По логике Нанси, если подвергнуть гражданское общество той же рефлексии, в которой оно объективно и концептуально было образовано, мы получим базовый пример «истинной демократии», а именно современное искусство.
Отказ от «большого отождествления» (с Судьбой, Нацией, Королем и т.д.) у Нанси, избегающего традиционного буржуазного экономизма-витализма, за счет перечисления того, как может выглядеть «ницшеанское утверждение», создает своеобразную версию «арт-демократии»: именно в «искусстве», в первую голову, обнаруживается возможность для эгалитарного аристократизма. То есть, само исходное перечисление небезобидно: например, ницшеанское утверждение не может, видимо, осуществляться через «производство», «накопление», «спекуляцию», «управление», «подчинение» и т.д. Все эти моменты и предикаты несингулярны, они счетны и обмениваемы. Роль же демократии –
«…конфигурировать общее пространство так, чтобы в нем можно было открыть всё возможное изобилие форм, принимаемых бесконечным, фигур наших утверждений и деклараций наших желаний. То, что происходит в искусстве на протяжении последних пятидесяти лет, показывает как нельзя более ярко, насколько это требование реально. В той мере, в какой демократический полис отказывается от изображения самого себя, оставляет, быть может несколько рискованно, свои символы и свои иконы, он, словно бы в награду, видит, как возникает множество чаяний неизведанных форм. Искусство корчится в муках, пытаясь породить формы, которые по его собственному желанию должны выходить за предел всех форм того, что называется «искусством», за предел формы и идеи «искусства» как такового. Рок или рэп, электроника, видео, коллажи, графитти, инсталляции или перформансы, новые интерпретации переложенных форм (например рисунка или эпической поэзии) – всё свидетельствует о горячке ожидания, о потребности заново схватить существование в полноте его транс-формации…» (pp. 50-51)
По отношению к этому «существованию в транс-формации» «Город-Полис» как политическая единица находится в амбивалентном положении поддержания «условия существования», которое никогда не может быть просто позицией «нейтралитета» или позицией «чистой границы». Демократическая политика – это, конечно, политика границы, однако как сделать ее именно демократической, не впадая в иллюзии «культурной политики»? Нанси не решает этих вопросов, поскольку гораздо более значимым оказывается сам сдвиг в его рассуждении, некоторая сбивка: от предельно абстрактной буллы Демократии как неавторизованного удержания потенции в настоящем – к «базовому» примеру современного искусства. Является ли искусство «всего лишь» примером, или же этот тот пример, который заведомо вписан в феноменологическую процессию примера-сущности? Легко понять, что тезисы Нанси не так-то легко выполнить на других «примерах», и, в то же время, именно искусство как «пространство сформованное под бесконечность», ставит проблемы, которые, в целом, сводятся к тому, что подобный «демократический режим» требует не только «выделения» этого пространства, но и редукции тех практик его колонизации, которые, несомненно, действуют. И обратный вопрос – собственно, то вы-от-деление места со стороны «полиса», – не оказывается ли оно некоей странной данью «пространству бесконечного», которая как раз зачеркивает претензии на эгалитарность? Если коммунизм возможен только в форме современного искусства, нужен ли нам такой коммунизм, или, вернее, что стало с самим коммунизмом? Впрочем, простое «существование», не находящееся в «полноте транс-формации», похоже, не имеет особого значения для вопроса о демократической политики, и это уже вносит некоторое различие в саму позицию Нанси – если сравнивать ее с более ранними работами.
Отвечая критикам, считающим, что автор не предлагает никакой «политики» (а он, конечно, ее не предлагает), Нанси пишет:
«В действительности, я считаю, что политический вопрос сегодня может серьезно ставиться только при рассмотрения того, что демократия вводит в качестве принципиального превосхождения политического порядка – но превосхождения, которое осуществляется только из полиса, из его установления и из его борьбы – всего того, что от нас требуется мыслить sub specie infinitatis humani generis. Именно в этом смысле я говорю о «духе» демократии – не о «духе», который отличает ее ментальность, ее атмосферу, ее общий процесс, но о дыхании, которое должно ее вдохновлять, которое ее и в самом деле вдохновляет, если, по крайней мере, мы можем присвоить его, для чего нам нужно попытаться вспомнить о нем…» (pp. 53-54).
Это заключение о «духе» рифмуется не только с духом «68-го», но и с переходом к общему заключению, к «Истине» (последняя, 13-я, главка книги). Демократия не является «одной из политических форм». «Демократическая политика – это политика в отступлении от подведения под общее. Она обрывает всякую «политическую теологию», будь она теократической или секуляризованной…» (p.60). Итак, если в тех же терминах, демократия оказывается «именем режима смысла, истина которого не может быть подведена ни под какую упорядочивающую инстанцию, будь она религиозной, политической, научной… и которая полностью вовлекает «человека» как риск и шанс «самого себя», «танцора над пропастью»… Демократия есть эгалитарная аристократия». И она же есть «долг изобретения политики не целей танца над пропастью, но средств, позволяющих открыть и удерживать отрытыми пространства их вовлечения в произведение…» (pp. 60-61).
Демократия, или коммунизм, конечно, не «подводятся» у Нанси под «искусство», поскольку такое «подведение» слишком сильно подвело бы демократию. Однако проблема арт-демократии более существенна – в неожиданном сближении «духов» Нанси и «богов» Руссо. Если вопрос демократии – это вопрос ее духа, то не потому ли, что она есть буквально дело духов? Ведь, в конечном счете, Нанси лишь заново прочерчивает различие между «жизнью или необходимостью» и «политикой», «просто жизнью» и «хорошей жизнью», переиначивая Аристотеля так, что там, где политика начиналась, она должна – теперь – всегда быть en retrait, в необходимом самоустранении. А раз так, вопрос «необходимости» выводится демократической политикой в область неполитического, оставляя в качестве «истины демократии» именно то пространство, в котором ничего необходимого нет. И которое может быть праздным уже в буквальном, то есть буржуазном смысле слова. Но настоящий буржуа, оставивший необходимость и калькулируемость за границей своего существования, – это конечно дух, который знает, что его существование само по себе никогда не находится под угрозой, и вообще не является – как голое существование – чем-то, что может быть, в принципе, поставлено на карту.
В этом смысле, демократия – это не столько режим самоуправляемых «богов» (духов), сколько режим самоуправляемых духов, занятых искусствами за пределами нашего понятия «искусства». Работа Нанси сводится к такому переоформлению различия «политического/неполитического», которое, с одной стороны, устраняло бы опасные «классические» родо-видовые определения политического (всегда приводящие к тому, что демократия оказывается лишь одной из политических форм, причем не лучшей, а всего лишь наименее худшей), а с другой – исключало бы релевантность вопроса «калькулируемого» существования, то есть, в пределе, просто выживания, в качестве политического вопроса. Локк, в каком-то смысле, в лице Нанси одерживает здесь окончательную победу над Гоббсом (пользуясь успехами рэпа и граффити, и отказываясь от всех иных политтеоретических завоеваний). Т.о. демократическая политика сегодня – это не какое-то отдельное «пространство политики», это процедура взаимо-изъятия, взаимо-отстранения двух сфер неполитического – сферы «калькулируемого» и сферы «некалькулируемого». Сферы эквиваленции обмена и сферы «чистого утверждения». (Все, конечно, осложняется тем, что их различие не может быть онтическим, но это отдельный вопрос.) Политик должен – в такой перспективе – заниматься «не-смешением» этих сфер и проведением продуктивной границы. Понятна, что такая процедура (характеризующая некоего «землемера», но весьма специфического), сама механика проведения границы и «предоставления места» требует достаточно жестких условий, в том числе и «калькулируемого» порядка, что оставляет нерешенным вопрос, возможна ли тотализация того, что по ту сторону границы и по эту, и, соответственно, сохраняет вариант, когда сама система различия «двух сторон» не подчиняется логике ницшеанской «аффирмации».
Возможна, конечно, критика Нанси не только со стороны политэкономии и анализа самого трансцендентального различения политического/неполитического, так или иначе прорабатываемого «истиной демократии». Однако, полезнее выявить проблемы, которые ею неявно поставлены. Почему единственным позитивном образцом «коммунизма» (и демократии) стало искусство, и именно современное искусство? Почему нет концептуального, а не имагинативного представления коммунизма (и демократии) (оно невозможно?)? Почему демократия, отказываясь от «изображения себя» (se figurer), тем не менее, систематически образует собственную большую Фигуру, используемую, в том числе на международном уровне, в качестве именно Истины Демократии? Почему, если следовать за последним вопросом, волна 68-го отступила, показав, что демократия, как режим «в отступлении», сам непременно отступает, так что и сама событийность 68-го идентифицируема только в перспективе разрушения демократии – либо тоталитарным «влечением к смерти» (к Нации, Государству и т.п.), либо менеджериальным управлением «эквивалентностями»? Если политика «должна» проводить границу и исключать саму себя из пространства, «сделанного под бесконечность», всегда остается вопрос этого «долженствования» и его обеспечения. И все эти вопросы, думается, не укладываются в перспективу «танцев над пропастью».
Дата публикации: 27.07.09
Проект: Планка
© Кралечкин Д. 2009