
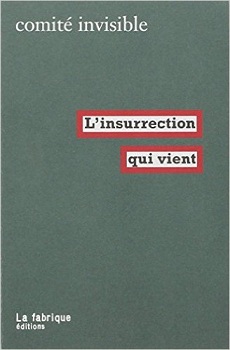
[Невидимый комитет. Грядущий мятеж. La Fabrique, 2007]
11 ноября 2008 г. – день, когда арестовали «тарнакскую девятку» (она же – «Невидимый комитет» или «Невидимая ячейка»), группу безобидных (или весьма злостных, по мнению властей) высокоинтеллектуальных анархистов, проживавших то в сельской местности (в деревне Тарнак), то в сквоте в Париже, и попавшихся, якобы, на порче кабеля линий TGV, – был, несомненно, нужен для фиксации «события», которых во Франции последнего времени хватает, однако все они имеют скорее безличный характер. От безымянных поджигателей машин теперь удалось перейти к вполне конкретным персонам, оказавшихся к тому же авторами текстов, а не малограмотными жителями этнических кварталов Наконец-то судить можно за дела, под которыми стоит подпись теоретического письма! Не вернулись ли времена Спинозы и Вольтера?
Интерес, спроецированный масштабным «шоу в масках» на главное произведение «Невидимого комитета» – выпущенную в марте 2007 г. издательством La Fabrique небольшую книжку «Грядущий мятеж» (L’insurrection qui vient, 2007) (название, кстати говоря, выполнено, и не случайно, по лекалу книги Дж.Агамбена «Грядущее сообщество»), помимо увеличения продаж и закачек (книга свободно распространяется на сайте издательства), повлек и несколько нетривиальных вопросов, теоретического и юридического характера. Парадокс в том, что резкость жеста Жульена Купа (Julien Coupat) (предполагаемого лидера группировки) и текста «Невидимого комитета» сглаживается и усмиряется теми многочисленными интеллектуалами (в числе которых А.Бадью, С.Жижек, Л.Болтански, Дж.Агамбен, Дж.Батлер, Ж.-Л.Нанси и многие другие), которые подписали петицию, обвиняющую власти в разжигании еще одного «чрезвычайного положения» и в превращении молодых любознательных людей в грушу для отрабатывания приемов полицейской власти. По сути, как и адвокаты, интеллектуалы утверждают, что «Грядущий мятеж» – это скорее литература, даже художественная литература, а никак не руководство к захвату телеграфа, вокзала и телефона. И связывать ее с теми или иными эмпирическими действиями никак нельзя.
Иными словами, от общества, власти и полиции (которая, якобы, просто не умеет читать, хотя эксперт по безопасности, советник министра внутренних дел Н.Саркози и масон Ален Бауэр закупил около 40 экземпляров «Мятежа», ставшего, вероятно, любимым чтением в интеллектуальных секторах французского МВД) требуют либерального разделения слов и дел, нейтрализации текста как такового, что не может не привести к инфантилизации его авторов. Правда, их собственная реакция пока неизвестна – неясно даже, как она могла бы быт обозначена, если учесть анонимность произведения. Но, несомненно, ставка книги не столько в том, чтобы оставить полицию с носом, сославшись на условности литературной игры, сколько в том, чтобы «сказать все как есть», признаться в собственных мыслепреступлениях еще до того, как обвинение предъявлено. И сделать так, чтобы это мыслепреступление было неотделимо от практики (в которую входит как выращивание моркови, так и возможная остановка линий французских сверхбыстрых поездов, известных на всю планету тем, что они ходят точно по расписанию).
Хотя многие пытались записать «Грядущий мятеж» в «библиотечку анархиста и начинающего подрывника», например «традиционно» левая «Либерасьон» назвала ее «анархистским требником, достойным внимания полиции», в действительности, интерес книги вовсе не в подписи, заранее определяющей авторов в качестве членов той или иной партикулярной политической секты. Левое движение, во Франции находящееся на грани полного краха, от «Грядущего мятежа» получило здоровенную оплеуху – не то, чтобы совсем нетрадиционную (в конце концов, кто из французских интеллектуалов после Альтюссера не пинал компартию, не говоря уже о социал-демократии), но на этот раз выполненную наотмашь, без разбора на своих и чужих. Претензия «Мятежа» – не в маркировании единственно верной позиции, которая заранее предполагает ложь другого, а в некоем предельно объективном взгляде, выговаривающем всё как оно есть (поэтому-то так характерна нелюбовь авторов к философии вообще, и особенно к постмодернистской и деконструктивистской философии, ведущей происхождение от «Ницше»). И это отличает «Мятеж» от традиции манифестов (прежде всего сюрреалистских и ситуационистских), с которыми он, несомненно, связан: в нем нет ничего, что говорило бы от лица именно неких новых «я», некоей новой группы или (анти)культурного движения: скорее, сама реальность должна заговорить тем языком, который обнаруживается на ее пределе, в момент ее исчерпания. Поскольку главное послание «Невидимого комитета» – в том, что реальность, в который мы живем, сама является формой кризиса, она предельно неконсистентна (типичная фраза, написанная, замечу, задолго до официально объявленного кризиса ликвидности и ценных бумаг: «Не экономика находится в кризисе, сама экономика и есть этот кризис», p. 49). Это даже не пустыня реальности, в смысле Жижека и Лакана, а то, что не может существовать, однако существует: оно не могло бы существовать, если бы реальность чтила закон исключенного третьего и реально боялась противоречий, не могла их переносить, однако этого не происходит.
Такая предельно неконсистентная реальность, максимально отличающаяся, например, как от гармоничного универсума Лейбница (с его продолжением в мире New Age), так и от хайдеггеровского «бытия-в-мире», с его цепочками значений, выстроенными вокруг Dasein, традиционно и теологически называется адом. Поэтому первая часть книги посвящена описанию этого ада, в котором мы существуем. Вернее, доказательству того, что это именно ад. Поскольку это ад, доказательство разделено на семь кругов, но в отличие от Данте, нам уже не нужны Вергилии – по сути, достаточно выйти на улицу. И, что главное, реальный ад не построен по логике наказания, поэтому он не предполагает и истечения срока – люди ничем не отличаются от демонов просто потому, что они не наказывают сами себя и не живут в логике «расплаты», «искупления»: ад создается всего лишь «необходимостью», тем, что «так надо», множеством социальных и физических границ, которые полностью интериоризированы (начиная с необходимости пить кофе перед работой, и заканчивая терапевтическими поездками на Гоа во время кризиса). Сущность ада не в формально-логическом признаке необходимости, а в том, что эта необходимость невыносима, и все же она претерпевается. И, в отличие от классического ада, в современном его обитатель существует во всех кругах сразу, ничто не позволит ему изолироваться в одном из них. Семь кругов – «субъект» и «я», социальные отношения, труд, экономика, городская жизнь, окружающая среда и отношение к природе, наконец культура и западная цивилизация – то, что составляет саму повседневность, против которой и восстают новейшие мятежники. Ад должен сказать свое слово через них – как его «писцов».
Попытка высвобождения адова языка местами весьма нетривиальна, однако в целом «Грядущий мятеж» не изобилует теоретическими обоснованиями. Многие из них обнаруживаются, скорее, в литературно-теоретическом журнале Tiqqun, издававшемся «Невидимым комитетом» до 2001 г. (само название является философским концептом, восходящим к понятиям каббалы, обозначавшим нечто среднее между «искуплением» и «освобождением»). Именно там была изложена обширная теория сообществ и гражданской войны, соединяющая в себе философские линии от Хайдеггера до Агамбена и Нанси, с привлечением шизоанализа, современной социологии, киберпанка и т.д. Эта теория, одновременно философская и литературная, интересна уже тем, что в качестве одного из ее главных «концептуальных персонажей» (если в терминах Делеза-Гваттари) в ней выступал джойсовский модернистский Блум: «…ужасное сообщество – единственная форма сообщества, совместимая с этим миром, с Блумом. Все остальные сообщества воображаемы, то есть не действительно невозможны, но возможны только в некоторые моменты… ужасное сообщество не только возможно, оно уже реально, уже актуально (en acte). Это сообщество тех, кто остаются. Оно никогда не есть в потенции, у него нет ни будущего, ни становления, ни целей, внешних ему, ни желания стать другим, только желание продолжить существование (persister).» (Tiqqun, Zone d'Opacit? Offensive, 2001, p. 88). Весьма схоластический текст подготовил более поздние и якобы эмпирические выкладки «Мятежа». Блум отличается тем, что не имеет никакой отстаиваемой наклонности, никакой неабстрактной связи, которая не могла бы быть разрушена в пользу «персистенции» – существования, для которого императивом является его продолжение. Матрица Блума задает первый круг ада – отношение к «Я» и выполняемую «мятежниками» критику «идентичности», против которой выставляется «сингулярность». Если «Я» – лишь система вменения ответственности и одновременно терапевтической невротизизации (поскольку «здоровым» конвенционально считается только невротик), выстраиваемая как государством, так и капиталистическим потреблением, противопоставить ему можно только «сингулярность», то есть связь с «местами, страданиями, предками, друзьями, возлюбленными, событиями, языками, воспоминаниями …». Иными словами, «флексибельности» я, связанной с системой воспроизводства капитала, оппонирует скорее хайдеггеровский Mitsein, однако впоследствии он получит название «коммуны».
Ад «Грядущего мятежа» сторонится официального языка этого ада, данного, например, в форме экологистского дискурса (в соответствующем «кругу» сам этот дискурс представляется в качестве инструмента контроля – в конечном счете нацеленного на то, чтобы за грехи богатых бесконечно расплачивались бедные, которых призывают «умерить свои аппетиты» и жить скромнее). Еще более заметно, что этот ад – не глобалистский, а специфически французский, то есть тот ад, в который превратилась Франция, став частью глобального сообщества, выросшего во многом – через Америку – из нее, из идеологического оформления логики капитала как логики разрушения любых неэффективных связей и отношений, любых производств и воспроизводств, которые не способны войти в поле конкуренции. Однако «адский француз» – далеко не либерал. В «кругах» книги, посвященных социальным отношениям, труду и урбанистике, он предстает как результат двухвековой секуляризации и индивидуализации, хотя и завидующий «этническим кварталам» (в которых сохраняется некая «связь существ», густота существования), индивид, который полностью проработан школьной системой (которая распространяется на все общество в виде некоей логики «правильных оценок и наград») и в то же время ненавидит ее, мечтает с детства о том, чтобы его школа сгорела дотла. Неконсистентность демонического француза в том, что он всеми силами стремится быть в обществе, всегда выходить «в свет», и в то же время приватно обязан «плевать на все». Он что есть мочи карабкается по карьерной лестнице, и в то же время должен сохранять мину безразличия. Свободное предпринимательство так и не стало во Франции образцом «настоящей работы», полностью определяемым государственным службой – только чиновник, функционер может быть достойным гражданином, и уже школа готовит маленьких чиновников. Волнения по поводу «Контракта первого найма» в 2005 г., как и незатихающие стычки и протесты студентов, по версии «Невидимого комитета», – это явный признак расхождения швов системы, которая уже не выполняет функции превращения любого иммигранта в образцового француза: в этом смысле «Невидимому комитету» созвучен знаменитый роман «В стенах» (Fran?ois B?gaudeau, Entre les murs, ?ditions Verticales, 2006): Республика разваливается не только на уровне полицейского ажиотажа и драк «на пустом месте», но и на уровне языка, учителя не столько невротизируют и цивилизуют учеников, как они делали раньше, сколько сами попадают в плен остаточных «коммунитарных» и «языковых» связей, которым завидует индивидуализированный француз.
Внутренняя некогерентность существования не предполагает, однако, диалектического перехода: «мятеж» – не результат развития системы, а апофеоз тотального саботажа. Француз – саботер уже по своей природе. А в современном мегаполисе группы мятежа распределены по всему ландшафту, они лишь ждут момента, когда всеобщий обмен и всеобщая кинематика будут застопорены каким-то сбоем (в этом смысле, нарушение движение поездов TGV – вполне обоснованная акция). С позиции «Невидимого комитета» вся техногенная цивилизация уже состоит из сплошных слабых звеньев и узких мест – достаточно перекрыть одно, и катастрофы (или, в иных терминах, – спасения) не избежать. Существенным моментом является то, что искомая «коммуна», как организация, которая отрицает свою собственную формализуемую структуру, возникает именно в результате уничтожения собственно городских коммуникаций. Базовым примером для «Невидимого комитета» стали сообщества, организованные в разрушенном Новом Орлеане теми, кто так и не дождался помощи от государства. Иначе говоря, если базовая современная политика, дезавуируемая в «Мятеже» (и целой традицией критики, восходящей к В.Беньямину), сосредоточена в понятии «управления», управления именно выживанием, то коммуна может возникнуть как попытка совместного выживания тех, на кого управление уже не распространяется. Если Найоми Кляйн стала проповедником «катастрофического капитализма», собирая в США огромные аудитории и призывая к восстановлению элементов социального государства, то радикальные противники современного общества выступают за катастрофу, но против «социальных мер», «секьюритарных» практик как таковых: бомжам, оставшимся в Новом Орлеане сильно повезло, что длань государства до них так и не дотянулась. Поэтому «коммуна» не столько «замещает» собой ад, сколько создает его изнанку, оборотную сторону неконсистентного, но весьма бурного, несмотря на все кризисы, социального воспроизводства. В некотором смысле, это не классическая «коммунистическая утопия», сколько такая же реальность, как и сверхбыстрая реальность мегаполиса. Одно предполагает другое. Но такого вывода мятежникам недостаточно – такая коммуна лишь негативна и пассивна.
В конечном счете, коммунарные требования «мятежников» не новы – они достаточно хорошо встроены в анархистскую традицию. Полное отрицание институтов предполагает, что коммуна – это не организация, а, скорее, встреча, сходка, то, от чего по утилитарным соображениям нужно было бы отказаться. Это сообщество без общества, предельно неповторимая встреча. Нет ничего общего между коммунами и «гражданским обществом» в любых его формах. Если второе выстроено в логике апроприации тех или иных проблем, то коммуна исходит из отрицания существенности проблем, «навязываемых» языком власти. Никакие профсоюзы, движения и т.д., если они организованы, если они предполагают формальную структуру, систему распределения власти, абстрактность отношений, не могут претендовать на «оформление» коммунальности. В современном обществе коммуна существует за счет чего угодно – ее главная цель – «освобождение времени», то есть выключение из социального порядка воспроизводства, а для этого хороши любые инструменты, в том числе и махинации. И, естественно, коммуна не остается в пассиве, она сама переходит к той или иной форме саботажа.
Итак, коммуна не решает проблемы, которые наличествуют в данном обществе, не создает и некоего другого «общественного устройства» (в этом смысле коммуна – это то сообщество, которое полностью отрицает свой социальный дизайн). Закрытие «социальности», о котором повествует один из «кругов», коммуной не снимается. Здесь важна именно дискурсивная позиция – описание общества как оно есть сейчас, с точки зрения «писцов реальности» и современности, дублируется поддерживаемым радикальными политическими теориями стремлением «привязываться к тому, что испытываешь в качестве истинного» (несложно заметить перекличку и с лакановским «не уступай в своем желании», и с теорией субъекта у Бадью). Однако такая привязка достаточно формальна – более того, неясно, что делать, в конечном счете, с теми, кто не замечает того, что «существует во лжи». Отказавшись от традиционной марксистской прогрессистской логики, современные анархисты, однако, не могут отказаться от самого различия истины и лжи, хотя оно и фундируется лишь привязкой субъекта. Предполагается, что привязка в форме коммуны, существующей в основном на нетрудовые доходы (это подробно обосновывается), более онтологична, нежели «сконструированная» привязка к «мнению» как таковому, предполагающему, что жить нужно по средствам, а не на широкую ногу. В противном случае, то есть если бы «Невидимый комитет» не сохранял различия истины/не-истины, вполне просвещенческого, хотя и с оттенками Шпенглера и К., коммунальная жизнь предстала бы просто в качестве life style, вполне безобидного, и интересного и в самом деле разве что участковому милиционеру. Такая возможность следует уже из акцентуации «клинамена» и «вкуса» в определении того, что противостоит «ужасному сообществу» Блума, для которого, в принципе, всё – равно. Но коммуна претендует на большее за счет того, что представляет свой клинамен в качестве универсального оппонента его отсутствию, на то, чтобы она, как исключенный элемент, предстала в качестве истины всего общества. Отсюда достаточно смешная попытка выстроить модель «коммун», которые бы «заменили собой институты общества – семью, школу, профсоюз, спортклуб и т.д.» (p. 90). В этом смысле коммуна выступает в качестве «редукции» – почти в феноменологическом смысле: разрушение формальных и абстрактных связей вплоть до коммуны, в которой нет никого лишнего, никого, кто не был бы связан лично, здесь и сейчас, со всеми остальными, позволит, якобы, в итоге восстановить те же самые институты (вернее говоря – «сделать их самим», по-своему), однако не говорит, чем эти институты будут отличаться от прежних. Круг «отчуждения/присвоения», похоже, должен повторяться вечно. В лучшем случае общество, которое построено не на «формальных» связях, будет напоминать (весьма симптоматично) абсолютно коррумпированные общества (вроде того, что С.Лем описывал в рассказе про профессора А.Донду: в некоем воображаемом африканском обществе рождаемость была чрезвычайно велика именно потому, что каждый отец семейства должен был кровными узами связать себя со всеми учреждениями – школой, больницей, почтой и т.д., ведь как «формальных», «безличных» институтов их не существовало).
Заметим, что даже в лемовском «африканском» варианте существует формальный код связи, а именно «семейный», «кровный», хотя он и «неформален» с точки зрения стандартного института, тогда как «коммуна» нацелена на полное отрицание социального кода в целом. В некотором смысле, это могло бы быть общество без повторения, или, в более общем смысле, общество без записи, общество-первого-раза, где любая интеракция не была бы следом ничего предшествующего, не могла бы повторяться, и, что главное, не могла бы переноситься на других людей. Коммуна – это общество, где все люди абсолютно незаменимы. В этом смысле, она, конечно ничем не отличается от рая (вернее сказать, такое «общество с абсолютно незаменимыми людьми» – это и есть единственно верное теологическое определение рая), однако реализация его в подлунном мире представляется проблематичной. Коммуна актуально, уже сейчас существует или как совместность выживающих, или как полукриминальное образование тех, кто априори не будут зарабатывать деньги «честным путем» (лучше воровать в мегамоллах), однако совершенно неясно, как тотализовать эти формы, сделать саму их истину «универсальной», ведь без тотализации они не только остаются делом вкуса, но и показывают незыблемость того «ада», который они якобы дезавуируют, на деле паразитируя на нем. В аду всегда найдутся теплые местечки для тех, кто не согласен с его порядками, тем более, что его шаткая структура дает массу возможностей для «встреч» и «неформальных», «невидимых» извне связей и группировок.
Заявка на тотализующую истину, подкрепленная апокалиптической картиной краха цивилизации (последний из «кругов» описывает превращение Запада в универсальную истину планеты, что, по мысли «Невидимого комитета», погружает всю планетарную цивилизацию в кому), не согласуется с выписыванием коммунальности в качестве того предельно эмпирического «места встречи», которое нельзя отменить, ведь процедуры достижения истинного желания определяются только результатом – отрицанием институциональных и вообще любых структур – а никак не конкретной рецептурой. Позиция «писцов реальности» хороша тем, что позволяет отстранить голос «необходимости», всегда идеологизированной и вмененной, однако она же воспроизводит в тексте «Невидимого комитета» все проблемы, связанные с «теоретическим созерцанием» истины социального мира: речь от «самих вещей» систематически пропускает ту силу иллюзии, которая присуща этому миру, причем не обязательно в негативном смысле. Выполнение такой «контемплятивной» позиции в современной политической критике не только повторяет классическую проблему «переноса» истины (в данном случае – «истины желания», или вернее нежелания – жить в данном, то есть планетарном – обществе) на тех, кто живет в мире мнения (в число входят как успешные топ-менеджеры, так и человеческий «материал», отброшенный капиталом за ненадобностью). Отрицание «формально-демократических» (и потому, с точки зрения «мятежников», заведомо проигранных, проваленных) механизмов, оставляет проблему, если угодно, «диктатуры коммуны», то есть обоснования подобной диктатуры, ведь без нее результат закономерен – либо благостное проживание в пасторали Тарнака, либо столкновение с государственной машиной (которая заинтересована в представлении «Грядущего мятежа» в качестве элемента именно «террористического» преступления – но характерен один из комментариев читателей «Фигаро»: «Прекратите семантические игры, какое нам дело, какие идеологические мотивы заставляют их вредить обществу, надо просто остановить вредителей»).
Если «Невидимый комитет» и их сторонники не хотят представить свою деятельность в качестве варианта «существования в щелях» большого общества, неких «каникул» вечных студентов, им необходимо решить все те проблемы политической философии, которые остались нерешенными: если вопрос социального существования – это не вопрос необходимости (ничто не заставляет людей быть с другими людьми, вопреки всем новоевропейским теориям), а вопрос «встречи», «желания» и «истины» (которая, заметим, всегда сингулярна, как учили Нанси и Агамбен, которая всегда формирует общество-без-произведения), как сделать саму эту истину необходимой для тех, кто не склонен к социальному созерцанию, и для кого актуален только язык чистогана? Несмотря на радикализм критики, проведенной (или скорее, суммированной) в «Грядущем мятеже», легко заметить, что в теоретическом плане изложенная схема не только предполагает возможность отказа от «социального договора», не только отрицает действие «естественных законов», которые еще у Гоббса почти математически приводили к образованию «большого» общества, но и некритически предполагает, что в «естественном состоянии» можно было бы существовать без какого бы то ни было ограничения со стороны «необходимости продолжения существования» (persistence), со стороны связанного с этой необходимостью «дефицита» (или негативности в целом). Поразительным (но классическим) образом «анархисты» считают необходимым убийство Левиафана, но полагают, что в естественном состоянии реализуется само социальное «благо» как таковое, мыслимое по модели свободного объединения людей, которые вдруг стали друг для друга незаменимы.
Вопрос тут даже не в том, насколько «добр» человек в естественном состоянии, насколько не прав Гоббс, и действительно ли стоит лишь отказаться от многочисленных «цепочек зависимостей», которыми и создана современная цивилизация, – и тебе сразу же откроется истина коммуны, а, скорее уж в том, какой именно человек требуется для того, чтобы общество существовало только «в первый раз», в нулевой степени, в форме коммуны. Возможно, что «райский житель», который, несомненно, затребован коммуной, просто по определению должен обладать такими «компьютационными» возможностями (в смысле современной нейронауки), которых натуральный человек просто не имеет. Ведь, по сути, чем больше общество формализовано, тем меньше человеку надо рассуждать и заново оценивать каждую из ситуаций, в которые он попадает. Институты, вообще говоря, облегчают социальное взаимодействие уже тем, что не требуют лично вкладываться в каждое социальное действие, каждое взаимодействие с остальными людьми и т.д. «Райская» же схема коммуны потребовала бы, чтобы в каждом случае была проведена чуть ли не гуссерлевская процедура доказательства чужой субъективности, чтобы та каждый раз давалась вне каких бы то ни было «седиментаций», а каждый акт выстраивался именно так, как он должен выстраиваться здесь и сейчас, без оглядки на некий образец, письмо, повторение. Нетрудно понять, что императив подобного «поступка» эквивалентен определению святости – только святой может реально делать нечто так, словно бы никто другой до него это не делал, и словно бы это действие было реально, а не метафорически сингулярным. Только святой способен реально отрицать социальное письмо. Есть, правда, еще вероятность, что на то же будет способен искусственный интеллект, но это разве что после прохождения сингулярности. Так что коммуна – общество либо святых (и тут нужна политическая теология), либо роботов.
Пока не разработана «социальная теория» рая, «практическая» часть «Грядущего мятежа» выглядит, скорее, как негатив того образа «креативного» капиталиста, который никогда «не работает» (в прежнем протестантском стиле) и который неплохо был описан в уже старой книге Дэвида Брукса с характерным названием «Бобо в раю» (David Brooks, Bobos in Paradise: The New Upper Class and How They Got There, Simon & Schuster, 2001): достаточно сказать, что «Невидимый комитет» выделяет в труде «участие» (participation) и «эксплуатацию», предполагая, что коммуна допускает лишь участие, а не опасную смесь того и другого. Работать не нужно, нужно чаще встречаться, а между встречами можно «халтурить». Отрицание «больших социальных структур» уже выполнено в «большой» политэкономической структуре, симптомами чего стали как былой триумф «богемных буржуа» (бобо), так и крах социал-демократии (например, во Франции на последних выборах). И коммунальность – лишь следствие этого краха, единственный теоретический и критический, но чересчур симметричный ответ тех, кто остался «не у дел» (или решил отказаться от дел вовсе). В любом случае, призыв «Вся власть коммунам!», демонстрируя тупики современной политической теории, позволяет отметить проблематичность обычной нормы «экспертного» знания и «управления»: вопреки видимости, по сути, у нас нет ни одного ответа ни на один значимый политический вопрос. И если Лионель Жоспен говорил – пора понять, что «государство может не всё», мы пришли к положению, когда «политика не может ничего»: политика перешла в статус абсолютно неоправданного существования, она уже не легитимирована и не фундирована ничем, и позиция коммуны, несомненно, –лишь фиксация этого тезиса.
Дата публикации: 07.05.09
Проект: Планка
© Кралечкин Д. 2009