
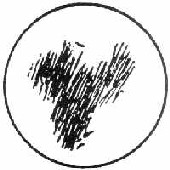
Reader System Requirements: Платформа : Weber Max. Операционная система: Hegel ++. Приложения : Peter Drucker, Ikujiro Nonaka, Peter Senge, Verna Alle, Karl-Eric Sweiby.
Племя интеллектуалов, или Новые гностикиТщательно и с настойчивостью провозглашаемый – в одном очень специальном смысле – интеллектуальный класс (со всеми синонимами – «белыми воротничками», « knowledge workers » и т.д.) не только подражает социальным формам самоорганизации буржуазии, но и ее габитусу, пусть и транслируемому теперь уже только в форме научного исследования. То есть ему нужны и социальная конституция, и габитус, отличимые на фоне предшественников. Это подражание, как и сама специфика интеллектуального класса, выходит далеко за пределы науки управления, социологии или синергетики, из которых новый интеллектуальный класс, якобы, черпает исходники для своей обобщенной и улучшенной программы. Вряд ли Питер Друкер подозревал, что интеллектуальные сотрудники будут не только оспаривать статус собственников предприятий, но и поставят под вопрос существование последних, а Пригожин со Стенгерс, наверное, не ведали, что в точках бифуркации прямо из воздуха (то есть корнями к небу) растут денежные деревья, которые, главное - успеть обобрать. По крайней мере, можно поспорить, что никакие уравнения не предвещали тех сверхприбылей, которые стали отличительной чертой интеллектуального класса, попасть в который посложнее, чем стать членом семьи Фордов.
Вебер, к сожалению, не может нынче отвечать за генезис буржуазии, а также за ее бытие (то есть за то, что она как-никак осталась). Но он, по меньшей мере, уважаем как человек, достоверно описавший ее исходный габитус и предложивший определенную систему объяснения этого габитуса. Попробуем представить, что он мог бы придумать, столкнись с сегодняшним «интеллектуальным классом» - в его манифестах, лозунгах, привычках, типах поведения и коммуникации?
Если веберовский буржуа упражняется в доказательстве природы благодати (но не ее несомненной выполненности в каждом отдельном случае), то представитель интеллектуального класса (особенно после развития и быстрого заката сверхприбылей корпораций dot com – в масштабах всего мира, и росту значимости spin doctor 'ов на ограниченном промежутке новейшей истории России) определяется по совершенно иному поведению. Для него Бог – это не даритель благодати. Он понял, что главный атрибут христианского Бога - креативность. Если Бог – креативщик, что такое его мир? Мир – это всего-навсего самый известный креатив. Креатив – это всегда стирание оппозиции creation и creature в пользу creation . Разве это не было истиной иудео-христианской религии с самого момента ее возникновения? И разве не дожидалась она, таким образом, пришествия подлинного креативщика, полностью соответствующего ее внутренней истине?
В отличие от своего буржуазного предшественника представитель интеллектуального класса не смотрит на себя, как на всего лишь часть христианского мира, в котором он идет своим своеобразным путем исполнения заповедей. Напротив, креативный Бог для него стал чем-то вроде бога отдельного племени, поскольку только интеллектуальному классу каким-то неведомым путем оказалось открыто то, что было скрыто от всех остальных. И тут не могли не вернуться некоторые гностические мотивы, что и демонстрируют некоторые теоретики интеллектуального класса. Творение – это признак бога нового племени, не скрывающего своих претензий на власть, которая принадлежит ему по праву некоего теологического первородства. Поэтому, как сказал бы религиовед, это высшая ступень язычества, которая состоит в утверждении исключительной роли творческого начала и полном отрицании всех остальных. Главное – творческая жилка, а что касается спасения (или чего-то в этом духе), лозунг интеллектуального класса все тот же: спасение утопающих – дело рук самих утопающих. В конце концов, и утопать можно весьма креативно (например, можно попробовать утонуть в Мертвом море, в котором это сделать не так-то просто – вот тут-то и понадобится Ваша креативность).
Традиционно из всех атрибутов Бога именно творение и его творческая мощь никогда не служили тем, что объединяет творцов и тварь, по крайней мере именно потому, что подражание в творческих способностях не является ни залогом спасения, ни демонстрацией действия благодати. Творение – не дело человека, его дело – труды. А в труде, вообще говоря, ничего творческого может и не быть. Но для интеллектуального класса выражение «он – всего лишь чья-то креатура» само становится выражением презрения. В принципе, не важно, что творить, как и с какими перспективами. Креативность тяготеет не только к бессодержательности, но и к мгновенности. Единственное отличие креативщика от Бога состоит в том, что первый не может растянуть творение на семь дней – здесь, очевидно, проявляется ограниченность его творческих потенций. Полную неделю творить сложно, хотя и жизненно необходимо. Семь дней нужны для того, чтобы сотворить мир, но креативщику нужно творить постоянно, хотя никакого мира в итоге не получится – все дело в том, что это не одно «продленное» творение, а цепочка сингулярных. В этом смысле креативщик, скорее, следует за картезианской теорией «перманентного творения»: если мир не создавать каждое мгновение заново, нет никаких оснований, что в следующее мгновение он продолжит свое существование. У креативщика проблемы не с миром, а с самим собой: если не продолжать творить каждое мгновение, нет никаких гарантий, что ты продолжишь свое существование в следующую минуту . Причем вопрос о том, что творить, не является принципиальным. В конце концов, по логике креатива, еще неизвестно, чему радовался Бог, когда творил мир – миру или творению! Вернее, только для Бога это одно и то же (Бог в принципе определяется отсутствием онтологического различия между творением и миром – например, по священным текстам нельзя понять, «творил» ли Бог что-то еще кроме мира или у него, что бы он ни творил, всегда мир получался), а креативщику нужно довольствоваться малым, то есть творением без мира. В конце концов, то, что из творчества креативщиков мира не получается, - это проблема мира, вероятно, он просто плохо устроен, без трансляции всех необходимых для полного креатива условий. А это, конечно, гностицизм.
Интеллигенция не креативна, митьки не сексуальныВопрос об «интеллигенции» и «интеллектуальном классе» представляется на фоне валютных спекуляций и тридцатилетних миллионеров (это такой современный аналог пятнадцатилетних капитанов) просто архаичным. В России всегда была проблема переходного звена от интеллигенции к интеллектуальному классу и просто « knowledge workers », поскольку сам этот переход для интеллигенции был бы чем-то абсолютно радикальным. Это звено состояло из преступников. Переход от твари занимал Раскольникова, когда он вопрошал «Тварь ли я дрожащая, или право имею». Герои Достоевского хотят стать новым интеллектуальным классом – это и Родион Родионович, и Подросток (мечтающий о рокфеллерстве) и многие другие. Раскольников не признает бесперспективной работы в качестве учителя, ему нужно стать даже не Гегелем, а сразу Наполеоном. Его интересует сверхприбыль.
Как выяснилось, вся проблема была в самом вопросе, то есть он был поставлен неверно. Раскольников не определил, в чем же было его искомое право. И хотя он попытался идти путем креатива, ничего из этого не вышло. Связывание потенциального креатива с правом оказалась провальным, поскольку креатив боится юриспруденции и моралей. Парафразом этого лингвистического затруднения является герой митьков Жегулев, который задается тем же вопросом: «Ну вот и началось… – думал он и дрожал, – тварь ли дрожащая, или…» (дрожал он потому, что лежал в сырых кустах и там ему было очень холодно). Интеллигенция неспособна расцепить язык и бытие, она живет их удвоениями и подозрительными совпадениями, а это некреативно. Короче говоря, так интеллигенция и не выбилась из тварей в люди. Очевидно, ждет Ноева ковчега, ведь туда только тварей и берут.
Хотя интеллигенция явно в интеллектуальный класс не вышла, это не значит, что он – какое-то совершенно заимствованное для России явление. Ничего подобного! В действительности, отличие «творчества» от «труда», то есть нового интеллектуального класса от доброго веберовского буржуа само по себе неуловимо – так же, как нельзя было просто по труду определить, благословил тебя Бог или нет. Если признаком благодати можно считать некоторую эквиваленцию между деланием денег и тем, что они все-таки получаются (не у всех, конечно), то креатив опознается только по сверхдоходам, по разрыву эквиваленции в сторону «творения из ничто». Необычные методы креатива должны всегда окупаться чем-то невиданным. И здесь-то на место неудачных экспериментов интеллигенции вступают более чем глубинные ресурсы русской культуры, которая, как можно выяснить, никогда не чуралась ни креатива, ни сверхприбылей, ни Наполеонов с Гегелями.
Иван-царь половины царства и его интеллектуальный топ-менеджер ГорбунокКак известно, новоевропейский креатив – это субъект. Он делает сам себя тем, что отрицает все природные и социальные связи, начинает с нуля, причем в итоге получается всегда именно то, что соизмеримо творческому риску. Такое отрицание невозможно провернуть без определенной «придури», глупости, каприза и т.п., поскольку именно они являются мотором автокреатива. Субъект – это всегда тот, кто до последнего отстаивает свой каприз, и это иногда во что-то выливается (в режиме – «надо же, он был прав!»). Именно эти мотивы позволяют открыть истоки креатива в некоторых русских сказках, всегда вызывавших неоднозначную оценку так называемого просвещенного сословия.
Вот, например, сказка про Ивана-дурака (в ее разных вариантах). Беремся утверждать, что она – самая гегельянская на свете. Старшие братья Ивана, исповедующие некую патерналистскую традицию, – это и есть те, что знают, каким нужно быть (жениться на правильных невестах, выбирать правильных коней и т.п.). В отличие от них, Иван характеризуется тем, что у него вечно мозги набекрень. Ну а стать субъектом можно только тогда, когда мозги набекрень, именно в таком случае может быть обещан особый экономический выигрыш. Нельзя стать субъектом (читай – отцом интеллектуального класса), если не жениться на какой-нибудь лягушке. По всему понятно, что Иван, совершающий ряд глупейших поступков, выигрывает только потому, что эти поступки позволяют ему не делать так, как делают все, то есть его действия по определению становятся субъективными, сказка же в удобоваримой форме – например, в форме половины царства – показывает то, что Иван-дурак является самым главным человеком, тогда как о судьбе его братьев история вообще умалчивает, ведь они не сделали ничего такого, что заслуживает рассказа.
По сути дела, та распространенная и в корне неверная интерпретация Ивана-дурака, которая предполагает, что он живет каким-то особым умом, который для всех остальных глупость, не дотягивает до того экономического контекста, который всегда устанавливается в сказке, то есть такая интерпретация подразумевает, что именно в необычных условиях необычный ум Ивана приносит обычные – успешные – результаты, тогда как в действительности логика сложнее: дело не в контекстуальности «иного мира» (например, неразумно-сказочного), а в том, что именно уклонение Ивана от обычного ума его братьев приносит особо успешные результаты ; можно сказать, что именно такое уклонение задает экономию сверхприбыли, существенным образом отличающейся от той натуральной экономии, с которой начинается карьера Ивана и в которой остаются его братья и отец. Дело не в том, что ситуация сама по себе нетривиальна, а в том, что именно ее сдвиг вместе с Иваном дает сверхприбыль в виде предельной удачи, которая выражается в том, что никто не может быть большим господином, нежели новый Иван-царь. Короче говоря, закон самой экономии строится так, что наибольший выигрыш дается тому, кто каким-то образом нарушает сам этот закон , ставя под вопрос установленную связь ума и экономии. Если экономия «отца» Ивана, веберовского, скажем так, буржуа, – это рациональная экономия труда, то есть натуральная экономия работы-прибыли, то экономия Ивана – это экономия неэкономных действий, предполагающая, что тот, «кто не работает – тот ест». Она же показывает, что Иван-царь достигает своего царского места в силу уже указанного двойного закона самой экономии (ее расщепления на экономию натурального типа и экономию придури или экономию intangible assets ), то есть царь никогда не оказывается господином самой экономии, в этом отношении он не имеет ничего общего с сувереном Ж. Батая, который готов отказаться от экономии, обращая против неё ее собственные средства. В отличие от загадочного суверена, Иван – всего лишь первый представитель поколения dot com , первопроходец виртуальной экономики, ничего общего, естественно, не имеющей с банальным Интернетом.
Существует версия, что Иван – не совсем креативщик, что для реализации сверхприбыльного креатива необходим посредник, загадочный агент, который часто и приписывает себе функции нового интеллектуального класса. Он выступает в виде помощника/консультанта/поставщика интеллектуальных и креативных услуг. В сказке это – Конек-Горбунок. Выбор конька Иваном выглядит довольно странным и потешным поступком, но потом все поступки Ивана направляются коньком, то есть он оказывается его переносным умом, местом, в котором сопрягается обобщенная логика сверхприбыли со своим ресурсом в виде субъективной дури. Если бы не конек, Иван мог бы сколько угодно продолжать дурить, так и не получив свои полцарства. Конек – это та самая нелинейная «кривая», которая выводит, так что сама дружба с ним строится по схеме «водись с тем, кто выведет». Логика не существует без выведения и обращения, например, обращения глупости Ивана в его новое положение.
Деконструкция креатива русской интеллигенциейЗдесь легко заметить, что теоретические основы креатива, заложенные в русской сказке, были подвержены критической деконструкции с возникновением собственно светской литературы европейского толка, в частности А.С. Пушкиным. Отменяемая в сказках об Иване благодаря его креативной придури «сила экономического закона» реконструируется в «Сказке о золотой рыбке» - но именно за счет доведения придури до конца. Здесь логика сказки и ее закон представлены в рыбке, которая не может повиноваться прихотям старухи до бесконечности. Старуха – это просто тот же Иван в юбке, она решается на все более и более дурацкие желания, справедливо полагая, что именно их дурость должна окупиться – сила дурака в том, что именно его безоглядность восстанавливается экономией до его привилегированного положения, дает ему некую сверхприбыль, которая и выражается в господстве. Другое дело, что Пушкин заканчивает историю сказки как таковой, предполагая, что старуха-Иван в каком-то пункте пытается подчинить саму логику той игры, в которую она играет, что просто приводит к отмене всех уже достигнутых результатов – вся сказка становится не более, чем галлюцинацией старухи, отчаявшейся средствами обычной экономики починить свое корыто.
Пушкинская сказка, таким образом, – это деконструкция Ивана , показывающая, что его завидное положение строится лишь на том, что он по сути дела никогда не может дойти до конца своего чудачества, то есть последнее носит предельно рациональный характер, покуда такая рациональность как раз и означает необходимость не доходить до конца собственной рациональности (умно и креативно не задумываться о границах своего ума). Иван, в отличие от старухи, понимает и больше, и меньше - он понимает, что нельзя быть царем всего на свете, и в то же время он не понимает, что царем он может стать только благодаря тому, что он дурак. Ключевым моментом в деконструкции Пушкина является то, что старуха, доводя логику субъективной придури/креатива до конца, хочет стать «господином логики», который возможен уже помимо игры креатива/сверхприбыли, старуха хочет, чтобы сверхприбыль была гарантирована и, в принципе, совпадала с самим миром. Этот пункт демонстрируется критическим различием сказки Пушкина и традиционных сказок – вопросом о «половине» царства. Иван получает (почти всегда, хотя и не в сказке про Горбунка) половину царства именно потому, что ВСЕ царство – это обобщенная логика риска/креатива/сверхприбыли, то есть логика того «творчества», которое вознаграждается с неожиданной стороны, при условии что сама логика не ставится креативщиком под вопрос. Сказка про Ивана все еще имеет некоторые христианские коннотации, поскольку мир сотворен не им. Иначе говоря, деление мира и царства надвое демонстрирует лишь логическую структуру креатива, которая не может стать рефлексивной. У Пушкина та же структура реализуется за счет различия земного царства, в котором старуха становится царицей, и «морского» царства рыбки, в которое она хочет попасть в качестве полноправной «владычицы морской». По Пушкину, стремление объединить царства (то есть не останавливаться на сверхприбыли, а перейти к позиции «продажи всего мира», когда «мира всегда будет мало») приводит к краху. Величайшая геоэкономическая авантюра провалилась по чисто логическим причинам, и после этого провала возникает русская интеллигенция.
P . S . Сказка ложь, да в ней намек.
Дата публикации: 05.04.05
Проект: Философия интеллигенции
© Кралечкин Д. 2005