
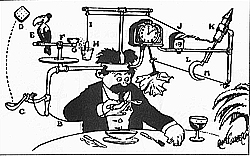
(первоначально опубликовано в №37 "Литературной России" (15.09.2006), курсивом выделены вопросы Алексея Нилогова)
– В какой мере для Вас значима сама позиция «философии», соответствующей символической и социальной привязки, что, в конце концов, значит «заниматься философией сегодня»?
– Дело в том, что сам этот вопрос распадается на несколько составляющих. Воображаемый лозунг «make philosophy, not war» не способен затушить войны, он способен только разжечь войну вокруг философии, поскольку такая война, думается, не столь дорогостояща, как сама философия. То есть, если говорить формально, я не думаю, что на сегодняшний день можно выделить какое-то универсальное символическое единство, некую инстанцию «философии», которая могла бы диктовать условия производства философов и самой себя. Но это не снимает проблем.
Если отдалиться от такого символического и социального регистра, я сразу же могу указать на одно весьма существенное затруднение: обращение к «философу» является одновременно своеобразным тестом, но и началом театрализации, в которой философ выступает в качестве некоего представителя собственного ментального мира. Это не совсем мой случай, что связано и с тем, что я всегда ставил под сомнение многие культурно усвоенные процедуры «авторизации», выделения тех или иных философских «фронтменов». Хотя при этом в группах, которые пытались практиковать «анонимные практики» работы, часто числился за «индивидуалиста». Собственно, я это к тому, что, возможно, сейчас философия вообще не регистрируется через доступ к ее привилегированным представителям. Философия остается без философов и наоборот, причем существует несколько модусов такого расставания, разлуки, один из которых и называется «культурой» или «философской культурой». И это нельзя не учитывать, нельзя на этом не играть. Например, наша с Андреем Ушаковым работа « EuroOntology » отсылает не столько к пространству «двойного авторства» (как если вы, например, вдвоем живете в одной комнате, точно определяя причитающийся каждому метраж), а к тому, что происходит, грубо говоря, в прихожей этой комнаты, в коридоре, когда один жилец постоянно наталкивается на другого (а иногда приходят еще и гости). В известном смысле это можно сказать и о «первых философах» – дело не в «школах» или «лицеях», а в том, что Сократ – это, скорее, просто название некоего агрегата, особой техники, соединяющей элементы «рынка», «безделья», «пары жен», «травматической памяти» об оракуле и т.д. Я считаю, что в таких моментах обнаруживается не нарратив, а крайняя неустойчивость философии как таковой – это всегда некое социальное образование неизвестной и ненужной природы, но оно не поддается устойчивой институционализации. Именно в таких образованиях обнаруживается стирающаяся «природа» философии как, прежде всего, избыточного, неэкономизируемого напрямую «употребления разума».
Тем самым я, кстати, вовсе не выступаю в фарватере борьбы за некий «коммуникативный разум». Коммуникация – лишь одна из подобных философских агрегаций, которая была выпущена в открытое производство, поставлена на поток. Была, скажем так, отдана лицензия на нее, как и на многое другое. Проблема философии, если посмотреть с этой стороны, то есть со стороны вопроса «что значит заниматься философией» (а этот вопрос, несомненно, интереснее классичного «что такое философия»), состоит в том, что философы достаточно быстро попадают в структуру, которая разве что имитирует констелляцию «Сократ-Рынок-Две-Жены» или «Платон-ученики-тиран». Грубо говоря, философию можно представить в качестве эдакого монетного двора, но философы быстро приучаются платить друг другу той же самой монетой, которую ранее они же и чеканили, так что они буквально принимают ее за «чистую монету», не видят ее действия, работы, производности. При том, что исходно эта «монета» вообще могла использоваться «не по назначению», выступать в качестве элемента игры, а не товарного обмена, так что здесь к вопросу «оригинального» происхождения следует относиться очень осторожно. Поэтому появляется фигура философа-учителя, философа-интеллектуала и т.п. – такие образцовые фигуры.
Если Вы принимаете такой подход, у Вас появляется определенная свобода от самого «означающего» «Философии». В известном смысле, Вы можете сделать что-то, что оказывается философией, и наоборот – большая часть того, что производится под маркой философии, – об этом просто стыдно говорить. Поэтому вопрос «что значит заниматься философией» носит не только опасно абстрактный характер, но и предполагает нормативность, определенную интеллектуальную схему платоновского толка, когда сама философия выступает в качестве идеи философии. Я думаю, что такая игра на современном уровне философской рефлексии уже отыграна, и поэтому, например, я достаточно равнодушен к тому, чтобы что-то из делаемого мной называть философией. Иногда это удобно, иногда нет. Иногда издержки такого именования слишком велики, чтобы на нем настаивать.
Итак, если вкратце, заниматься философией сейчас – это активно не обращать внимание на означающее Философии с большой буквы, то есть уклоняться от нарциссического образа философии, передаваемого культурой. «Активно забывать», не слишком настаивая на серьезности такого забвения. То есть сам вопрос смешон, если не встраивать ее в какую-то уже готовую или производимую на месте «философию».
– То есть Вы считаете, что так называемая социальная функция философии определяется именно такими образованиями вроде «Сократа-Рынка»?
– Да, все разговоры об «ответственности» философии и философов, распространении идей, просвещении, силе мысли и т.п. если и не выдают полное безмыслие, как оно обычно бывает, то по меньшей мере имеют очень ограниченное значение. Современные «проблемы», проблемы самого существования философии ставят ее в чудовищно смешную позу «бедственного родственника» – она родственна всем сразу – и наукам, и humanities, но никто не готов платить ей алименты (Вы, конечно знаете столь любимую в советской наукографии теорию «развода» философии, в результате которого образуются науки – кстати, институционально этот процесс идет и сейчас, например факультеты отделяются от философии, социологический факультет не так давно – исторически – стал в России независимым от философского факультета). Но это лишь скрывает факт раздробления, деструкции того, что условно можно было бы назвать «философскими агрегатами» или аппаратами. То есть философия – это не открытие знания, а открытие мышления в сцепке мышления с социальным существованием (хотя я понимаю, что слово «социальный» сейчас безмерно затерто), каковое открытие говорит только то, что такие сцепки должны переизобретаться каждый раз заново. Это, вероятно, определяет «западный» облик философии – мышление как, скажем, избыток ума по отношению к любому практическому действию, было известно и за пределами философии, но было встроено в принципиально иные агрегаты – отсюда вся проблематичность «восточной» философии и т.п. Или, как я могу сказать, – формирование (а не изобретение из головы в полете фантазии) «интеллектуальных схем» самого общества. Такие сцепки дают, например, эпифеномен «политического», который обретает автономию. Или, другой пример, «платоновская схема» вполне может обходиться без участия Платона и любого другого философа, поскольку она просто элементарно предполагает, что есть градация «приближения к уму». Замечу в скобках, что современная критика «метафизики» шла в направлении подобных интеллектуальных схем, уже выведенных из «философского оборота» – например, погруженных в деспотическое общество, в котором любое содержание мышления стало представляться в качестве алиби для власти.
Но последнее время запаса подобных изобретений уже не хватает. Кое-что еще можно было заметить на фоне «литературных салонов» XIX века, однако уже со второй половины XX века пространство маневра было сокращено разве что до междисциплинарных переходов – когда, например, философия обнаруживается под маской литературоведения (история деконструкции в США). Для меня такие маневры – не столько признаки тактики, сколько попытки – более или менее продуманные – восстановить «философию как процесс», поставить вопрос о ней заново.
– А в чем причины такого исчерпания, которое, кстати, всегда выписывается в совершенно разных терминах – у разных философов?
– Я, заметьте, настойчиво уклоняюсь от темы «смерти» философии или «закрытия» метафизики, и не только потому что эти темы стали шаблонами для тех, кто, вообще говоря, даже не удосужились их продумать. Просто на самом элементарном уровне «сомнительность» современной философии обычно рефлексируется в терминах «отличия-подобия» (неверного подобия или подобия, на которое можно согласиться). Отсюда и вся хрестоматийная проблематика «сближения-удаления» философии от других культурных образцов (науки, религии и т.п.). Однако в таком рассуждении устойчиво пропускается то, что, в целом, с подобием-то уже согласились, поскольку мифическая «оригинарность» (если пользоваться феноменологическим словарем) строится по пустому отличию от маячащих перед глазами образцов «реализации ума» или «интеллектуальной практики» – образцов науки, например. Иначе говоря, философия постоянно попадает в свою собственную ловушку, когда пытается мыслить некую интеллектуальную схему независимо от самой себя, найти в ней место и т.п. – поэтому-то стремление найти этой место в уже заданной схеме различия разных интеллектуальных сущностей выглядит смешно. Такое стремление лишь скрывает абсолютное отсутствие философии. Даже те проекты, которые открыто ставят задачу преодоления фатальности современного «интеллектуального» производства (в котором идеи производятся примерно в том же смысле, в каком «производится» нефть), сосредоточены на определенных фетишистских моментах (например, спасением считают союз с авангардными (через «ъ») художниками, или уничтожение авторского права).
– Вы все время говорите об уме, но что это такое?
– Ум не имеет «сущностного определения», то есть все подобные определения – некий продукт философской работы, выскочить за которую невозможно. Я бы сказал, что ум – это просто то, что лишает бытие актуальности, вернее, онтологического фантазма актуальности. В этом смысле, кстати, деконструкция – это просто попытка формально описать работу «ума», некий его муляж. Невозможно определить, что значит «быть умным», это определение было бы самопротиворечиво. Но, если говорить метафорами, быть умным (не обязательно умным оказывается индивид, это как раз редкость) – это, прежде всего, обнаруживать лакуну в любой самой плотной реальности. Лакуна может оказаться чем угодно – гаванью, лазейкой, оборвавшимся звеном, западней, поверхностью, это уже другой вопрос. Если «быть и мыслить – одно» – то в том смысле, что если есть одно, другого уже не нужно. Парменид – это скорее формула очень странной дизъюнкции, а не адеквации, как обычно подразумевается.
– Как то, что Вы говорите, связано тематически с Вашими текстами, работами?
– Напрямую – вероятно, такой ответ более всего ожидаем? Де факто, я сейчас изложил определенную логику выписывания философии, ее производства как попытки раскрыть, растворить то, что в философии называлось бытием – иначе говоря, то же хайдеггеровское определение «просвета» имеет смысл только в отношении с последующим забвением бытия или «догматическими конструкциями». Пока мы говорим о каких-то абстрактных «функциях» или «определениях» философии, которые уже освоены теми или иными культурными и властными институциями, самое большее – мы выстраиваем некую структуру «родства», так что один родственник будет похож на другого, но не более (от феноменологии через ряд родственников можно добраться доя когнитивных наук), но это ничего не говорит о способах существования философии. Можно вспомнить о том, что даже делезовское определение («философия как изобретение концептов») слишком концептуально «заземлено» – на собственную теорию Делеза/Гваттари, поэтому здесь стоило бы, например, перейти к их определению субъект-групп. Но я не говорю, что философия – то, что создает такие субъект-группы, это то, что создается в вариации таких субъект-групп, которые здесь же теряют свое определение «субъективности» (поэтому это, скорее, «сугруппы», «группы-динозавры»). Иными словами, философия всегда создает социально инсталлированный эффект «ума», помечает его место, которое затем может осваиваться как угодно и кем угодно.
Но здесь есть важный пункт – в настоящее время философия все время принуждена выполнять процедуру некоей редукции собственного содержания. Или отказываться от себя – я имею в виду, например, критику метафизики с разных позиций, попытки редуцировать философию до гуманитарных науки и т.п. Это интересное движение, оно говорит гораздо больше, чем если просто обращать внимание на остаток такого отказа. Когда мы начинали работать, мы очень увлекались неким юмористическим картезианством, то есть нас интересовали, например, следы работы возвращения к «аутентичному» в стиле Мамардашвили, или к «подлинному» в стиле Гиренка. Например, глас оракула, сообщающей истину, создает некий момент неприсваиваемости истины субъектом этой истины, и нам было интересно продлить этот момент до бесконечности, расширить рану до предела – то есть нас интересовала не некая концептуальная калька или карта, которая затем структурируется в тематизмах, а то, какие эффекты вызывает философская работа в своих казалось бы самих поверхностных моментах. И здесь мы столкнулись с линией «трансцендентального механизма» и невозможности прямого описания его отношений с «трансцендентальными» заблуждениями – эта тема стала отправной точкой для EuroOntology . Собственно, это был, во многом, очень витиеватый заход не столько к проблеме критики трансцендентальной логики как таковой (а к этой логике мы подключали и всю проблематику онтологических маргиналий, известную, в частности, по современным теориям симулятивности, по деконструкции и т.д.), сколько и к проблеме «производства философии». То есть, если, например, трансцендентальный механизм порождает некоторые перформативные эффекты (включая эффекты неприсвоенного субъекта или же неустранимых догматических компонент), то можно было предположить, что они являются не просто теоретическими проблемами, сколь угодно общими, а элементом некоего «режима философии», включающем не просто «метод», но и способ склейки социального. И в трансцендентальном режиме «бытие» определяется по «связке», которая носит как эпистемологический, так и социальный смысл, предполагая лишь одно требование – свою собственную устойчивость, некое выполнимое правило, повторимость – если брать самые простые случаи. Но само стремление критической и контркритической игры, обнаружимое как стремление очистить концептуальный аппарат от «метафизических» конструктов или же от иллюзий логоцентризма, не только не объясняет происхождения подобных иллюзий, но и ничего не говорит об их встроенности в саму критику. Проще говоря, постоянная редукция этих «некритических содержаний» не только подрывает онтологические претензии, но и указывает на собственный горизонт философии, состоящий, если опять же упрощать, в связывании без схемы, в чистом связывании, раскрыть которое вкратце сложно.
– Если Вы говорите, что философия имеет некую имманентную социальную размерность, значит ли это, что она может быть отождествлена с тем или иным социальным движением?
– Фактически, нет, философия, как я уже указал, вводит инстанцию «ума» – не как способ прямого различения, а, прежде всего, как способ снижения «уровня» актуальности, благодаря чему появляется возможность чему-то существовать иначе (то есть это такая ненатуральная экзистенция, экзистенция, которая не привязана к своему выделенному натуральному объекту, известному также как «человек»). В этом смысле, такая инстанция может иметь даже фиктивный статус, оставаться пустым местом – в любом случае она указывает на возможность иного социального распределения, причем именно в практическом смысле. Поэтому тут, кстати говоря, появляется дополнительная возможность. Мы можем не являться философами именно потому, что это место разыграно (но не занято!) кем-то другим. Поэтому тезис Гиренка об «интеллигенции» как том, что занимает место философии, я понимаю в буквальном смысле – это и есть здесь просто философия (по крайней мере таковой она была какое-то время и пока еще остается). Философия – это не то, что говорит «интеллигенция» или высказывает ее «мысли», это тот способ инсталляции «ума» в обществе, который был осуществлен благодаря интеллигенции. Грубо говоря, опять же, это не некая имманентная философия, принадлежащая интеллигенции, это «интеллектуальная схема», которая, например, предполагала связку определенной универсальности с предельным тематизмом (на уровне связки всечеловека и человека-книги). Это некое определение того, как что бы то ни было сделать «умным» или «сделать по уму», которое одновременно фиксирует социальные практики и фиксируется в них. И, конечно, это не связано всего лишь с определением употребления ментального словаря. Поэтому здесь, кстати говоря, позиции философа и философоведа смешиваются, но уже не в академическом смысле – если я изучаю интеллигенцию в такой перспективе я вроде бы «философовед», но все эти квазирефлексивные различия (различия производства и потребления, первого и второго) уже недействительны… Да, а социальные движения могут быть чем угодно, обычно их «размер» (это слово расшифровывается в EuroOntology – и достаточно длинно) не совпадает с философией.
– Если так, как Вы понимаете способы наделения философии «социальным смыслом», если вернуться к нашему отправному вопросу?
– Как я уже сказал, для меня не существует никакого внешнего «социального» смысла (который обычно отождествляется с рыночной стоимостью). То есть философия предельно социальна – в мире вообще нет ничего, кроме метафизики (я сейчас говорю о ней не в смысле «критики» метафизики) и общества, а точки их касания (не обязательно внешнего) – это и есть философия. Но сейчас такие конструкции кажутся «нерелевантными» «действительности» – конечно, просто потому, что под вопросом о «социальном» значении философии скрывается вопрос падения или по меньшей мере трансформации социального положения философии внутри совсем иной машины – машины университета и машины академии. И здесь философы или те, кто исследуют философию, могут либо играть во вполне определенную игру, либо довольствоваться тактикой малых интервенций. Дело в том, что философские тексты, например, всегда имеют бесконечную размерность – то есть если текст философский, любое его ангажирование создает ситуацию потенциальной неопределенности. Самый «продажный» философ может оставаться философом, это вообще ничего не значит, покуда он участвует в подобной работе – то, что он делает, может казаться «конфеткой», но никто не знает, не присутствуют ли в таких философских конфетах следовых количеств медленно действующих отравляющих веществ или мутагенов. Сегодняшняя культурная проблема – это проблема стерильности, мы заранее знаем, что в идеологических продуктах нет ничего, кроме идеологии, а в философских текстах нет ничего, кроме демонстрации принципов научной работы или даже принципов научного этикета. И это проблема.
– Можете ли Вы как-то определить свое отношение к более общему контексту российской или русской философии, а также к теме традиции как таковой?
– Конечно, формально это несложно. То есть я могу легко сослаться на какие-то работы и имена, которые имели и имеют для меня значения. Кое-кого я уже отметил по ходу разговора. Из западных авторов – тут тоже я мог бы указать на того же Деррида. Но тут систематически возникает затруднение, касающееся того, что такое указание на «источники» по сути является культурным кодом, который мне уже просто смешон. Это некий вассальный код, который имеет нулевую продуктивность. «Парусия», которая никогда не сообщает вещи достоинств идеи. Поэтому с такими вещами нужно обращаться осторожно.
К тому же, тезис о неких независимых и автономных «языках философии» всегда вызывал у меня некоторое недоверие – поскольку я слишком хорошо видел институциональные основания этого тезиса. Напротив, в EuroOntology мы в числе прочего продемонстрировали принципиальную продуктивность пересечения разных языков – например, «языка» деконструкции и языка современного функционализма, применяемого в когнитивных исследованиях. С точки зрения академии, это, конечно, может быть несерьезно, но, в каком-то смысле, Декарт с его кратким курсом онтологии и гносеологии был весьма несерьезен для схоластики.
Если же брать систему русской/российской философии, тут все достаточно запутанно. Когда говорят, что в России философии не было, а была на ее месте литература, эту мысль, как я показал, можно развить и довести до тезиса об интеллигенции, но в такой формуле, в какой она преподносится, она неверна – потому что берется просто-напросто «содержание» литературы, а это содержание в философском смысле оказывается достаточно слабым – не зря же для экспликации «философии» Достоевского (номинированного чуть ли не в качестве главного нашего философа) понадобились усилия чуть ли не всех профессиональных философов (то есть занимающих соответствующую социально-культурную нишу). Крен в сторону «аутентичной» русской философии, представляемой например славянофилами, также не проходит, поскольку опять же пытаются реанимировать просто содержание славянофилов и переводить его на какой-то современный язык. Поэтому в качестве принимаемой по умолчанию остается позиция банально «академической философии», но это уже не интересно никому, кроме «философов», которые ничем не отличаются от других «служащих» государства Российского. Я считаю, что собственно русская философия может определяться не столько содержанием, сколько игрой на разных содержаниях, реализуемой в изобретаемых социальных связках. Та же интеллигенция – это такая «большая игра». Но в ней могли быть и микроигры, которые иногда давали уникальные образования, которые, правда, не получали культурной фиксации. В 90-х было впечатление, что именно такие образования войдут в силу, составив контрпартию выдохшейся «доктринальной» философии, преподаваемой в системе высшего образования. Однако ничего такого не произошло – во многом именно потому, что многие из агентов подобных образований и групп просто не выдержали социального давления, которое им казалось «вратами великих возможностей».
Поэтому, как я думаю, нет ничего более противного философии, чем попытка вычертить ее заранее по некоему культурному или тем более национальному императиву, поскольку такие попытки всегда руководствуются схемой «присвоения» и выделения «своих», которая сама является лишь фрагментом определенной философской работы. Дело не в том, что философ – всегда «чужой», скорее он то, что греки называли pharmacos – весьма важный для общества козел отпущения, опасный уже и тем, что иногда может использовать свою цену рефлексивно и захватить власть. Это, конечно, не значит, что русская философия – то, что говорит от лица универсального, поскольку и универсальное нуждается в повторном изобретении, не существуя исходно.
- Считается, что у каждого философа есть фраза, которая характеризует его мышление, например, «мыслю – следовательно существую». У Вас есть такая фраза?
- Ну, скажем, «мира нет и не надо». Это, впрочем, скорее кантианский юмор.
- Какие темы будут интересовать Вас, по Вашему собственному ощущению, в ближайшее время?
- Прежде всего, я вместе с Андреем хочу сейчас подвести к точке конденсации проект «философии интеллигенции». Он может называться иначе, но кое-что из сказанного в нашем разговоре относится именно к нему. Речь идет о представлении интеллигенции не в качестве класса или «страты», а в качестве пространства философской игры. Игры не столько на уровне «интеллекта» или «дискурса», сколько на уровне практик. Нам важно показать ту философию, которую интеллигенция делает «несмотря на себя», «malgre soi». Но это не «психоанализ» интеллигенции, тут другое. Эта тема неизбежно выводит на проблему режимов мышления и их варьирования в философии. Во-вторых, я хотел бы продлить несколько метафизических разработок, связанных с проблемами, поднятыми в EuroOntology – многие из них объединены вопросами техники, «феноменологизации» и «размера». Хотя этот проект я длю уже достаточно долго, он далек от завершения, во многом в силу технической сложности и, скажем так, «некультурности» разбираемых вопросов. Однако это интересно мне и этого вполне достаточно, чтобы этим заниматься.
Дата публикации: 17.09.06
Проект: Философские институции
© Кралечкин Д. 2006