
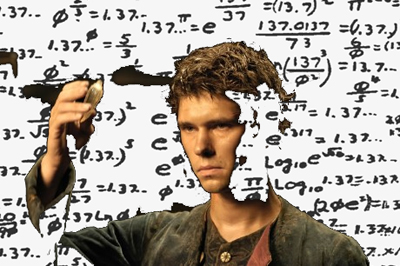
«Парфюмер» П. Зюскинда может быть прочитан как воображаемое развитие одной, так и не реализовавшейся, линии формирования эстетики, этой странной «науки» – и одновременно практики того, что слабо поддается познанию.
Несмотря на множество устойчивых романтических кодов, используемых в романе (и прежде всего это сам код злого гения), легко заметить, что в этом современном изображении романтизма (или пародии на него) происходит возвращение к некоей исходной связи всей новоевропейской эстетики, по сути исключавшейся из самого ее развития. Собственно, этот вопрос, который легко мог быть поставлен в эстетике – уже в момент ее обособления в XVIII веке, – состоит в ее практической значимости, в игре сил, которые высвобождаются эстетикой, которые образуются на той границе «практического»/«эстетического», которая была с такой тщательностью проведена Кантом. В данном тексте эта скрытая эстетическая линия реконструируется так, словно бы она действительно могла получить последовательное выражение, стать чем-то вроде учения. Одновременно показывается, что эта эстетика ставит вопросы, которые радикально подрывают классические границы эстетики, поднимая проблемы, скорее, экономического характера.
Субъект в данности
Описание Гренуя, его истории, - ничто иное, как описание «одного субъекта». Собственно, автор апеллирует к истории Европы (в ключевой момент приближения французской революции) как к истории субъекта, в чем нет никакой особой новации. Интересно, во-первых, то, что субъект оказывается «мерзким, подозрительным» типом, кем-то радикально далеким от «всего человеческого». Субъект полностью лишен гуманности, и это выражается на самых разных уровнях, которые лишь затем получают обоснование. Главная оппозиция – это оппозиция между всезнанием и «нулем» субъекта – получает натуральное изображение, поскольку проблема Гренуя не только в том, что он не чувствует собственного запаха, как он поначалу сам решает, но и в том, что у него объективно нет запаха, как у некоего находящегося за пределами мира места, которое является условием обнаружения запахов. Этот натурализовавшийся ноль – нечто весьма отличающееся от таких философских овеществлений, как Наполеон Гегеля. Гренуй ничего не представляет, потому что он полностью исключен из символической истории (которую можно выписать только в юмористическом ключе, например приняв антипросвещенческую позицию, заявленную в устах некоторых героев романа, того же Бальдини). Он не участвует в игре концепта/презентации, поскольку является не содержанием, а именно субъектом, тем, без кого мир не мог бы организоваться, и кто, тем не менее, радикально далек миру. В этом смысле, он оказывается средним членом между «злокозненным гением Декарта» и собственно романтическими гениями, которые создали традицию (в том числе и юмористическую) «гениальных ученых».
Но более значимым по сравнению с этим жестом натурализации субъекта (невозможной, но буквальной) является сама материя этой натурализации, ее содержание. Гренуй – это, конечно, картезианский субъект, попавший в реальный мир. Но вопрос не в том, как сложно ему будет жить в этом мире (хотя именно на этом строится сюжетная канва, в чем-то аналогичная «Человеку-неведимке», искусственно приблизившемуся к субъектному состоянию за счет невидимости - исчезновения), а в том, как он будет работать с этим миром, воссоздавая его и изучая. В отличие от собственно картезианской mathesis universalis, Гренуй создает свою собственную универсальную математику, а именно математику того, что не может быть математизировано.
Избрание в качестве единицы этой математики «запахов», является, конечно, доведением до предела проблемы чувственности в ее исходной постановке. Гренуй, как и Декарт, совершает акт «ухода в себя», для чего ищет «свободное от мира и людей» место (аналогично тому, как Декарт уезжает в Голландию). Отличие в том, что Декарт только становится субъектом, тогда как Гренуй является им от рождения и лишь подтверждает свой статус. Решающая разница в том, что картезианский субъект всегда восходит к тем врожденным несомненным истинам, которые напрямую не соотносимы с этим миром. Гренуй более радикален и в то же время более схоластичен: он открывает mathesis в стихии самой «примитивной» чувственности – и в то же время эта стихия становится средой essences, которые для постижения умом не нужно разлагать до протяженных составляющих. Вместо дедуцирования истин из «математики» Гренуй обнаруживает их «на уровне» самой действительности, он буквально видит, что мир состоит из математически точных, пропорциональных сочетаний, который разлагаются до элементарных составляющих, чтобы затем слагаться в сложные композиции и эссенции.
Парфюмерия в представлении Гренуя оказывается удачным решением большинства проблем классической науки картезианского типа. Прежде всего, mathesis получает реализацию, причем без всяких опосредующих элементов, вроде доказательства бытия Бога и его всеблагого характера. Mathesis не теряет своей строгости и в то же время приобретает абсолютно опытный характер, заранее закрывая возможность критического развития теории науки. Умопостигаемая природа оказывается данной непосредственно, она не нуждается в обобщении и всегда неточном приближении к своим собственным законам. В известным смысле, Гренуй заново открывает тот факт, что математика как таковая – это лишь омоним mathesis’а, а вовсе не его подлинное наполнение. Нет никаких оснований считать, что она обеспечивает решение тех задач, для которых она была призвана (собственно, и Декарт вовсе не считал, что mathesis эквивалентен исторически известной математике). Поэтому в фигуре реализовавшегося субъекта схлопывается вся картезианско-кантианская история и дилемма опыта/рацио. Вопрос «как возможны синтетические суждения априори» для Гренуя лишен смысла, потому что он находит способ имманентного конструирования самих понятий, ставших одновременно реальностью. Собственно, парфюмерия – это лишь идеальный вариант «конструктивного понятия», то есть такого понятия, которое образуется не в результате произвольного сочетания элементов, а в результате их развития и «роста». Все гносеологические оппозиции (живой природы/неживой, Ньютона/Кювье и т.п.) оказываются преодоленными на этом идеальном участке. Такой успех, конечно, ограничивается экзистенциальными опасностями, исходящими от «субъекта, выпущенного из клетки» (которой как раз и предстает картезианство). Но вместо анализа оправданности этих опасений, полезно рассмотреть сам новый матезис и его соотношение с будущим «эстетического».
Картезианская эстетика
Дело в том, что очевидно картезианский характер деятельности Гренуя контрастирует с той эстетикой, которая была зафиксирована в развитии поворота Декарта. «Классицистская эстетика» в варианте Буало менее всего, как кажется, способна на экзерсисы Гренуя. В ней все подчинено определенной грамматике, правильности, которая соотносима с правилами для руководства ума. Эстетика выявляет mathesis, однако это не столько mathesis чувств и сферы чувственности, сколько матезис социальной практики. Эта проблема была довольно быстро вскрыта критиками периода Просвещения, и тут-то и организовалась классическая констелляция всей эстетики как таковой – в ее двойственности – и практики чувств, и социальной практики. Как только был поставлен под вопрос принцип гомологии правильного и эстетически ценного как такового и социально-принятого (пристойного или же «изысканного»), возник феномен «красоты» и собственно эстетического – например красоты, которая не принадлежит никому и которая не может быть расписана по тому или иному набору социальных кодов. Красота вдруг оказалась чем-то присутствующим, но неуместным, без закрепленного места. Она стала открываться кому угодно – более того, именно такое открытие кому угодно, первому встречному, и стало условием того, чтобы красота была красотой. Но одновременно она потеряла всякое основание и стала постепенно приобретать пугающие черты все более неизвестного. Связь эстетики и «чувственности» как таковой обосновывается не каким-то онтологическим порядком, а именно отделением красоты от порядка социального и определением чувственности в качестве наименее «математической». Определение собственного mathesis’а чувственности откладывается на неопределенный срок (или вообще признается незначимым) – и одновременно красота исключается из порядка потенциальной математичности, оказывается чем-то принципиально скрытым именно в тот момент, когда она выводится из порядка «своей красоты», или «уместности», «пристойности». Более того, создается устойчивый ход мысли, предполагающий – благодаря картезианскому отделению чувственности – что любое раскрытие основания эстетического наносит ему ущерб, поскольку «редуцирует» его к чему-то иному.
Т.о. можно предположить, что само задание «эстетического», далеко не сразу получившее устойчивую, кодифицированную форму, осуществляется благодаря объединению двух линий развития. С одной стороны, эстетическое заранее попадает в область «чувственного» благодаря картезианскому повороту, который расставил по местам определенные эпистемологические и онтологические компоненты. Несамоочевидность такого сближения легко понять, если вспомнить, например, платоновские тексты о красоте. Красота перестала улавливаться в естественном свете разума. Вернее, она им улавливается, но только метафорически. И одновременно, с другой стороны, красота как центральный концепт эстетического реализуется в ходе деструкции адеквации социального и эстетического. Вся цепочка соответствий между пристойным, приличным, грациозным, возвышенным и т.д. разрушается из-за просвещенческой критики классицисткой эстетики. То есть эстетическое оказывается чувственным (всегда не проработанным светом разума) и одновременно выключенным из системы социальных гарантий. При этом такое выключение как раз и является условием эстетического – предполагается, что только таким образом можно найти подлинное sensus communis, которое лишь изображалось «галантным» искусством и галантным обществом, в котором «свет разума» соединялся со «светом» как таковым. В этом смысле критика классицизма или «светской эстетики» могла более последовательно идти в сторону критики картезианского способа обоснования наук, однако в реальности эти задачи представляются слишком различными.
Как уже указывалось, Парфюмер осуществляет ревизию картезианской эстетики и критики классицизма, высвобождая их имманентные проблемы и задавая будущие возможности. Реализация mathesis в сфере чувственности приводит к тому, что обнаруживается имманентный способ организации эстетического без обращения к какой бы то ни было социальной логике. Парфюмер исключен из общества ровно настолько, насколько и Cogito. Это исключение, равнозначное исключение эстетического из социального порядка, дает необходимость экспериментального построения эстетического на основе самой открываемой математичности чувственности, независимой от каких бы то ни было подготовительных «набросков» рассудка. В сфере запахов между гармонией и алгеброй нет никакой разницы – в силу особого строения этой алгебры. Главное – эстетическое снова обнаруживает себя в качестве «скрытого», в качестве некоего пакета матезиса, который может быть открыт, но далеко не всеми. Собственно, главное открытие парфюмера состоит в том, что чувственность, будучи для него выстроенной в точном математическом порядке (который задает нечто вроде врожденного и одновременно опытного языка, не подлежащего переводу), предполагает свою собственную неполноту. Это достаточно сложный момент, на который замкнуты большинство линий новоевропейской эпистемологии и эстетики. Если эстетическое требует своей скрытности, не-данности, то тем интереснее, что именно благодаря этой скрытости оно оказывается действенным. Для Парфюмера нет различия между имманентным порядком чувственности, порядком мира как такового и его персональной различающей/синтезирующей способностью. Особенностью работы «аппарата Парфюмера» состоит в том, что в нем актуально даны все те последовательности восприятия и даже его генезиса, которые обычно протекают в скрытом или сжатом виде.
Известно, что единственным реальным выходом из критики классицизма и вскрытия его социальных оснований был вариант реконструирования эстетического на основании определенных теоретических предпосылок. Собственно, такие реконструкции, давшие начало для определений «целесообразности без цели», указывали на возможность для чувственного аппарата всегда «знать больше». Mathesis – это не столько математика, сколько последовательная экономика познания, предполагающая, что всегда существует точная эквиваленция отдельных суждений, точное определение «количества знаний» в том или ином месте теории или познавательного аппарата как такового. В субъекте ничего не исчезает и ничего не появляется ниоткуда – он в этом смысле является гносеологическим гомологом закона «нет ничего без достаточного основания» (его экономический характер достаточно хорошо известен). Не математика, а логистика – вот что такое картезианский разум прежде всего (здесь не играет роли то, что собственно декартовская логика предполагала бесконечный кредит со стороны не обманывающего Бога). Чувственность же, как легко понять, наиболее близка к деятельности malin genie, поскольку она воспроизводит некоторые из его приемов даже в периоды бодрствования (сны наяву, фантазии, обманы чувств и т.п.). В результате она представляется чем-то, что не поддается строгой логистической проверке, ее аудит серьезно затруднен. В чувственности всегда «меньше знаний» (или нет вообще) именно потому, что их там больше. Это место логистической неопределенности. Собственно, на этом и строится вся логика «трансцендентализма», предполагающая, что возможен определенный проект логистики чувственности (как многообразия). Однако он ни в коей мере не отменяет того, что именно этот эффект экономической неопределенности задействуется для конструирования эстетического. То есть эстетическое начинает конструироваться не просто за счет того, что оно было выведено в область картезианской чувственности, но и за счет того, что в этой области возникает проблема экономии самого познания[1].
В самом деле, для Гренуя не существует самой потребности в трансцендентальном, поскольку он представляет тотальную реализацию картезианства именно в тот момент, когда оно столкнулось с весьма существенной критикой, как раз и поставившей на первое место вопросы чувственности. Последняя не является оппозицией дедуцирующей логике, она ее погружает в себя. Однако эстетическое как sensus communis остается вне этой полностью развернутой системы Гренуя: в действительности именно его онтологически совершенный аппарат чувственности накладывает ограничения, которые описываются в качестве «экзистенциальных». Если классическое объяснение эстетического предполагает, что в сфере чувственности мы можем знать больше, чем знаем «в явном виде»[2], остается неясным, что именно создает эффект эстетического – просто некое дополнительное знание или же сам процесс рассогласования знания и «не-обладания» им. Такое рассогласование и скрытие соположено «эстетическому».
Подвергающийся воздействию «духов» Гренуя вовсе не является просто чувственным «невежей» - поскольку он не только воспринимает их, но и поддается их силе. И в то же время в точном смысле «он не знает» духов, поскольку абсолютно не в состоянии проанализировать их и воссоздать. Эстетическая теория пошла по тому пути, что решила, будто впечатление от духов обеспечено тем, что мы в действительности знаем каждый из компонентов (поскольку ясно, что эти компоненты в таком сочетании в натуральном состоянии не встречаются), причем, вероятно, достаточно давно и в полной мере. Это знание существует в виде неких синтаксических связей целесообразности, то есть буквально контекстуальной применимости. То есть существует гиперлогистика чувственности, которая отсылает к контексту существования. Однако восстановить ее не представляется возможным. По какой-то причине чувственность существует так, что элементы прагматического контекста существует только в качестве знаков этой прагматики, и этими-то знаками как раз и оперирует эстетика (например в виде парфюмерии). Знаки полезности в принципе возможно использовать «по назначению» (пример Дидро со сводом указывает, что архитектор принимает в качестве наиболее подходящей ту форму, которая «наиболее полезна», хотя для него – и для нас! – она «наиболее эстетична»), однако эта теория может быть принята лишь при том предположении, что далеко не всегда такое возвращение к исходному прагматическому контексту оказывается возможным[3]. Особенно это видно на примере духов и парфюмерии в целом. Будучи в высшей степени социально кодифицированной, она в то же время строится на предположении некоего общего действия и общего чувства (над логикой которого как раз и работает Гренуй, создающий духи, в равной мере действующие и на простолюдинов, и на королей). Иными словами, она реализует в себе и принцип возможной социальной контекстуальности (Гренуй реализует его, когда находит возможность пользоваться для каждой конкретной ситуации строго определенным запахом, позволяющим ему или привлекать внимание или, наоборот, оставаться своеобразным «невидимкой»), и принцип «освобожденности» от социальных уз. Именно в зоне этой освобожденности восстановление прагматического контекста как нельзя более проблемно, хотя его попытки продолжаются и по сей день (например, можно утверждать, что те или иные запахи были связаны с некими условиями существования предков человека и по ним эти предки могли ориентироваться). Проблема такой реконструкции здесь особенно заметна: даже если восстановить прагматический контекст каждой отдельной компоненты, восстановить прагматический контекст композита, смеси крайне сложно, вернее невозможно, поскольку они наверняка не существует в природном состоянии. Снова возникает вопрос, за счет чего реализуется эффект эстетического, если только не списывать его на общую неполноту и нелогистичность чувственности, то есть если не ставить его в один ряд с заблуждениями или иллюзиями.
Позиция Парфюмера оказывается зажата между его предельными аналитическими способностями и невозможностью моделировать собственно экономические проблемы чувственности. Логическое развитие этой ситуации должно было бы привести к чисто бихевиористской стратегии поведения с его стороны – он, не имея возможности воспользоваться собственно несовершенной чувственностью, должен был бы просто проверять действие того или иного композита. В этом случае сам вопрос о реконструкции эстетического был бы элиминирован, однако не столько в пользу рационалистического решения «скрытой» или «абстрагированной» целесообразности, сколько в пользу экономической неопределенности как главного основания эстетического. Иначе говоря, эстетическое – не столько знак реального референта или следствие более полного, но утраченного знания, сколько схватывание самой неполноты: при встрече чего-то красивого наслаждение обеспечивается именно тем, что нечто воспринимается и одновременно не воспринимается – мы видим красивое, но не видим, чем оно красиво. Эстетическое оказывается самоопознающейся погрешностью, которая не может быть устранена, хотя и может быть домыслена и даже гипотетически дедуцирована. Правда, такой «Гренуй-бихевиорист» в самом тексте не реализуется ради продолжения существования на двух сторонах своего mathesis’а: в отдельных случаях он оказывается столь же подвержен импрессии, как и все остальные, то есть он может самоочевидным образом понять ценность аромата (хотя и здесь его отличие явно – поскольку он видит, что это аромат, а не просто «привлекательность»), тогда как в других остается абсолютно внешним этой привлекательности и вообще любому воздействию. С одной стороны он реализует эстетику и импрессию на уровне собственного матезиса – то есть непосредственно определяет аромат в качестве прекрасного и одновременно понимает, как он сделан, а с другой – в наиболее сильные моменты воздействия аромата оказывается внешним для него, матезисом без импрессии. В завершающей сцене очарования толпы в Грасе обнаруживается, что в каком-то смысле Гренуй гораздо слабее чувствует запах, который очаровывает всех остальных, поскольку он не только отлично понимает его заимствованный характер, но и не подвергается никому действию, аналогичному произведенному на остальных. В сфере чувственности субъект остается субъектом и, что еще важнее, может каким-то образом регулировать свою собственную импрессивность.
Открытый матезис чувственности дает возможность для уникального разворота внутри и самого картезианства, и критики, которой оно подвергалось. Чувственность имеет свой собственный логистический порядок, однако в целом она более «врождена», чем врожденные идеи, поскольку невозможно изменить базовые параметры своего аппарата чувств. Если обычная математика оказывается, с точки зрения Декарта, базовой моделью демократического знания, к которому дан доступ всем, то чувственность врождена и одновременно всем врождена по-разному. Способность Гренуя – это не какая-то «особая способность». На деле это сам развернутый порядок чувственности в полной неразличимости представляемого и представления (то есть реализуемый посредством вычеркивания всех гносеологических оппозиций, введенных в посткартезианской теории познания) – и, одновременно, крайнее отклонение, предел тонкости чувств. Обычная чувственность врождена именно в том смысле, что она в принципе не поддается приведению к математическому состоянию, которое для нее остается внешним. Но врождена она всем в разной степени, так что экономическая неопределенность сама предполагает множество вариантов. В таком случае, эстетический эффект, если он не может быть реализован как игра с прагматическими знаками (как у Дидро и других), может быть описан двумя путями.
Во-первых, он может оказаться эквивалентным фиксации самой этой экономической неопределенности. То есть эстетическое обосновывается, например, не прагматическим контекстом, а его забвением и исключением. Такой механизм предполагает, что эстетическое – это демонстрация чувственности самой по себе, то есть момент, когда она обнаруживает свою в пределе нелогистическую природу. Чувственность всегда является внешней по отношению к самой себе – она может знать больше, чем знает, иметь больше, чем имеет, схватывать больше, чем получает и т.п. Это некий экономический дисбаланс. Эта линия интерпретации в большой степени отвечает за включение «возвышенного» (в смысле Берка и Канта, а не «возвышенного» как изысканного в классицизме) в состав эстетики. Исследование этого дисбаланса – отдельная история, в общем она может быть связана с повторным устранением чувственности за счет представления самого этого дисбаланса в качестве порождающего источника всей эстетической системы.
Во-вторых, - и это вариант, к которому склоняется Парфюмер: эффект эстетического – не столько гипостазирование врожденного ограничения чувственности, сколько данная на уровне самой чувственности действенность, которая однако рационализируется и переносится на нечто иное. То, действие, которое осуществляют духи Парфюмера – это действие, для которого невозможно провести различие между собственно воздействием «красоты» и воздействием физическим (или натуральным). Парфюмер – это в большей степени химик некоей натуральной химии, которая существует как матезис качественно определенных веществ и сущностей. Вопрос эстетики, после ее развода с правилами и социальными приличиями, - это, в первую очередь, вопрос воздействия. Как и «красивое» - это нечто, осуществляющее воздействие. Парфюмер открывает подлинную картезианскую (или даже спинозистскую) эстетику, которая предполагает, что существует автономия красоты, однако на этом уровне она не является сколько-нибудь опознаваемой в качестве таковой. Например, Парфюмер знает, что «красота» Лауры – это не более, чем ее запах, который действует на своем собственном уровне, на уровне чистой чувственности (причем здесь, как уже было сказано, неясно, кто более восприимчив – Гренуй или все остальные). Иначе говоря, существует механизм, дизайн красоты, тогда как суждение о красоте – это суждение заведомо ложное, поскольку оно приписывает естественный эффект, который невозможно реконструировать непосредственно, чему-то иному. Например, действие запаха Лауры переносится на саму Лауру как личность и тогда красота – это не более, чем набор ее выдуманных «превосходных» качеств (как то фигура, молодость и т.д.). Иными словами, чувственность оказывается не столько даже частью познавательного аппарата (аппарат чувств), для которого всегда будет релевантен вопрос верного воспроизведения, соответствия внешнему предмету, точности разрешения и т.п., сколько отдельным онтологическим «модусом», на уровне которого бесполезно задаваться вопросом, в каком именно месте и в какой именно момент воздействия духов как особой химической смеси возникает некое особое «впечатление» красоты или восхищенности. Полная открытость чувственного для субъекта-Гренуя оборачивается тем, что возникает различие между объективным процессингом красоты и суждением о нем. Притом, в отличие от того, что можно встретить в ведущей линии развития философской эстетики, само это различие не оказывается сколько-нибудь значимым (в смысле первого варианта), и уж тем более привилегии не отдаются «суждению». Абсолютная субъективность Гренуя не оставляет места для иной субъективности, кроме как для заведомо неверного определения самого действия эстетического. «Красота» определяется в неверном суждении, однако никакого значения это не имеет (ее действию подвержены и те, кто не способен к такому суждению или кто оказывается вне его возможного контекста, иными словами «эстетический эффект» не может быть списан на «разрыв» между порядками процессинга и суждения: «красивое» – это язык для процессинга, у которого нет своего «человеческого языка»). В этой перспективе сама постановка вопроса об «эстетическом суждении» является следствием заблуждения – конечно, есть некоторая проблема в том, почему люди сходятся в определении красивого, однако бесполезно искать ответ на этот вопрос путем анализа их суждений или даже их познавательного аппарата – их суждения могут быть какими угодно (весьма вероятно, что, будучи согласными относительно красивого или захватывающего произведения, они разойдутся в суждениях, пытающихся определить, чем же оно их все-таки захватывает).
Экономия эстетики?
Итак, подлинно картезианская эстетика в момент, когда эстетическое обнаруживается как воздействие, иногда преднамеренное, которое реализуется на совершенно независимом и полностью «матетическом» уровне чувственности, так что оформление этого воздействия фиксаций чего-то в качестве красивого или не-красивого может иметь место, но это, в принципе, совершенно безразлично для самого «процесса». Т.о. эстетика выводится из под юрисдикции субъекта именно в тот момент, когда она становится полностью субъективной, когда она сводится к вопросу универсального воздействия, которое может и не описываться какими-то эстетическими категориями. Субъективная эстетика в стиле «Парфюмера» деконструирует традиционный словарь эстетики, словарь всех изящных искусств вообще.
Если оставить «Парфюмера» в покое, становится ясно, что он может продемонстрировать возможность, которая была не проработана, но которая, однако, структурно поддерживает взаимодействие гносеологии/эстетики и экономики в условиях радикальных социальных изменений и способна достаточно много сказать об этих изменениях. Раскодирование классицистской эстетики, с одной стороны, впервые намечает контекст определения эстетического через «бесцельную целесообразность», а с другой – смещает само пространство эстетического и его изучения от произведений как таковых к их воздействию. Картезианское присвоение этой ситуации было невозможно в действительных исторических границах картезианства. Однако понятно, что оно должно сместить акцент на самой логике воздействия: не так уж очевидно, что принципы воздействия эстетического нужно искать на стороне собственно чувственности субъекта, а не на стороне самой «физики» этого воздействия (или химии). Бессмысленно шататься от одной стороны оппозиции к другой (воспринимающий субъект/импрессирующее его произведение или объект), если неясно, что именно является медиатором. Картезианская эстетика потенциально стремится к поиску медиатора, общей среды, которая связывает воедино, в одну цепочку действий, и произведения (артефакты), и субъектов, носителей чувственного аппарата.
Следует отметить, что этот вопрос «медиума» явным образом намечался в посткартезианской гносеологии, однако так и не стал ведущим. По сути, переход от Декарта к Ньютону всегда описывается как переход от чистой дедукции к опыту. Однако попытки легитимировать практику и теорию опыта в последовательной гносеологии наталкивались на неопределенность самого канала познания, лишенного какой бы то ни было трансцендентной поддержки (которая есть у всех действительных продолжателей картезианства – Мальбранша или Спинозы). Как вообще становятся доступными опытные данные, если не посредством того или иного «воздействия», «аффицирования», которые производят «импрессию»? Эмпиризм Просвещения сталкивается с чисто рефлексивной проблемой невозможности определить характер этого аффицирования, поскольку кроме него нет никакого иного (второго) аффицирования. Поэтому и гносеология, и психология, и эстетика начинают центрироваться на вопросе определения «собственной» импрессии субъекта – так что Юм (Of The Standard of Taste) может, следуя одному и тому же методу, получить вполне позитивные результаты в области эстетики (обладающие феноменологической достоверностью – эстетическая импрессия не соотносима ни с каким референтом и поэтому не нуждается в обосновании, являясь истинной сама по себе), в отличие от «скептического» эпистемологического результата. «Картезианская эстетика парфюмера» решает ту задачу, которая не была решена картезианством и в то же время не могла быть в принципе решена его критиками. Она исследует медиум чувственности, ее незаменимое, качественно определенное пространство, не стремясь редуцировать его к какому-то варианту протяженной физики.
Однако здесь же возникает проблема экономической конструкции этой воображаемой эстетики, а именно вопрос использования самой чувственности. Деструкция классицисткой эстетики руководствуется критикой первичного «прагматического» контекста, например контекста «света», однако ясно, что сама эта критика может направляться только определенным экономическим и политическим императивом, который вдруг задал непродуктивность чисто светских инструментов. Иначе говоря, эстетическое «зависает» в промежутке между уже раскодированным светским порядком и предполагаемым универсальным порядком полезности, то есть буржуазным порядком, требующим получения всеобщего и научно обоснованного лексикона полезности/ценности. Странное положение эстетики – положение, постоянно дистанцируемое от какой бы то ни было экономической пользы, требует объяснения. Основополагающий эстетический жест принимает форму сбережения – сбережения эстетического от какого бы то ни было использования – как на стороне объекта, так и на стороне субъекта. Эстетический объект исключается из локальных социальных кодов, как и из контекста «рыночного» использования. И одновременно, он должен быть сохранен на уровне субъекта, который может слишком вольно и поспешно использовать его для собственного наслаждения. Эстетическая импрессия не должна быть слишком импрессивной. Реконструкции «эстетического» всегда направлены на то, чтобы восстановить субъективный зазор между полезностью и актуальным впечатлением: эстетическое выступает в качестве одновременно бесполезного и бесценного, в качестве самой вещи и всего лишь знака, сущности и незначимого атрибута, памяти и забытья. Даже смещение эстетической проблематики от обычной «восприимчивости» к вопросам продуктивности (у Шефтсбери, а затем, в гораздо большей степени, у романтиков) всегда осуществляется как производство, оторванное от контекста производства, как условие, которое не образует основания для дедукции. Такое положение эстетического предполагает, что намеренное абстрагирование от экономии позволяет создать особый режим работы самой экономии, эквивалентный координации множества бесконечных ресурсов, раздвигающих рамки локальных прагматических и производственных контекстов.
В противовес этому картезианская логика работает не на дискретной динамике конструирования эстетического в разрыве между разными экономическими ситуациями (или в условиях скрытия/открытия полезности), а в непрерывной стихии самой чувственности, которая позволяет вывести и производство, и потребление, и саму полезность из под юрисдикции ограниченного субъекта. Эта эстетика оказывается гиперэкономией, поскольку она обладает потенцией приложить картезианские принципы построения науки к тому, к чему они никогда не прилагались – к вопросам полезности и блага как такового. Известно, что классическая политэкономия, складывающаяся в XVIII веке, строилась во многом на том, что сама полезность полезного выносилась за рамки рассмотрения. Например, неясно, что именно определяет благо того или иного натурального блага-товара, если не принимать в расчет «натуральные потребности», которые становятся все более и более призрачными. Вопрос в том, что именно в антропологии или в онтологии эквивалентно плану экономики и политэкономии, что именно позволяет выстроить эту науку в качестве точной науки, апеллирующей к своей собственной реальности. Классическая политэкономия строится не на продуктивных абстракциях, а, скорее, на апелляции к обыденному использованию определенных терминов и представлений, с которыми она должна сверяться, даже если требуется ответить на нетривиальные вопросы (Мальтус). То есть предполагается, что сама полезность полезного, определимость в качестве блага некоего товара или продукта не редуцируется к той или иной «точной сфере», а ограничена непрозрачной природой или же дана в обыденных наблюдениях. У экономики нет своей собственной природы – аналогичной физической или даже этической.
«Картезианская эстетика» же позволяет предположить, что такой «точной природой», исходной реальностью для экономии является сама чувственность, то есть именно она позволяет определять что-то в качестве «полезного», а вовсе не отвлеченные рассуждения о том, что «необходимо» человеку, которые всегда грозят тавтологичностью. Чувственность определяет, что нам нравится, что не нравится и, в конечном счете, дает окончательный ответ на вопрос, что именно становится товаром. Реальностью экономии оказывается именно она, а не труд, монетарные средства или природные ресурсы, которые определяют лишь ограничения политэкономии, а не ее точную реальность. При этом «точная реальность» чувственности, открываемая в воображаемой (и реконструируемой здесь) картезианской эстетике, не является какой-то природой «человека», к которой можно было бы приписать окончательный реестр полезностей. Реальность экономики существует, но эта математическая реальность не имеет окончательных референтов, поскольку она открывается как реальность бесконечно варьируемого воздействия на основе бесконечной рекомбинации самой чувственности.
Особенностью этой эстетической реализации экономии как точной науки является то, что она впервые освобождает саму эстетику от знакового характера. Дело не столько в том, что «эстетика Гренуя» в ее действии с трудом поддается подведению под генеральную тему искусства как подражания (природе или исходному образцу). Скорее, эта эстетика предполагает возможность понимания некоей аутентичной полезности, а не необходимость постоянной ее реконструкции. От просвещенческой теории к Канту осуществляется, по сути, только один шаг – гипотетическая реконструкция прекрасного через отсылку к исходному прагматическому контексту меняется на реконструкцию через апелляцию к собственному контексту работы познавательного (трансцендентального) аппарата. И в том, и в другом случае эстетическое объясняется – наследуя теме экономической невозможности или неопределенности чувственного – как условно полезное или как «знак полезного», в конечном счете вводя саму проблему существования чего-то, что нельзя использовать, но что указывает на закрытую возможность. Иначе говоря, прекрасное как знак или освобожденный элемент прагматического контекста всегда истолковывается через некий дефицит, который сам нуждается в объяснении (то есть, например, неясно, каким образом и зачем реализуется разрыв в самом этот контексте, забвение его первичной формы и т.п.). Прекрасное оказывается подвешенной экономией, неполной и недостоверной. С другой стороны, сама экономия исходит из того, что она не является наукой о полезности как таковой, то есть наукой о том, что определяет полезность полезного. Если вопрос новой эстетики – это вопрос воздействия и импрессии, производимой тем условно полезным, что невозможно восстановить в качестве такового, то вопрос новой экономики – это вопрос функционирования и обмена полезного, которое полезно именно потому, что производит такое воздействие (например удовлетворяя потребности, но не только). В одном случае мы имеем несомненно «удовлетворяющие» воздействия, которые, однако, непрозрачны – неясно, что именно удовлетворяет, поэтому мы вынуждены прибегать к реконструкциям, превращая прекрасное в знак, в другом – мы заранее занимаемся изучением не просто того, что безусловно полезно, а того, как безусловно полезное обменивается друг на друга, абстрагируясь от своей первичных качеств. И в том, и в другом случае, таким образом, реализуется работа по «редукции» натурального (но никогда не данного) прагматического контекста (из которого, например, исходил тот же Хайдеггер), но эта редукция осуществляется как будто независимым образом: в случае эстетического мы можем объяснить наше наслаждение прекрасным только тем, что оно полезно неизвестным нам образом, а в случае экономики – мы вообще не ставим под вопрос наслаждение и полезность, поскольку последняя уже абстрагирована в обмене (мы можем менять условно полезное или то, что актуально нам не нужно). В «картезианской» эстетике намечается встреча этих двух сторон, двух способов работы с прагматическим контекстом, который полностью теряет свой натуральный характер. В ней само полезное оказывается не независимой (или гипотетической) переменной, а именно тем, что зависит от «матезиса» чувственности. Картезианская эстетика снимает не только проблему реконструкции целесообразности (или же ее подвешивания в рефлексивном ходе целесообразности без цели), но и радикальным образом изменяет саму форму экономического обмена – естественно только в гипотетической модели, в качестве асимптоты, в которой, возможно, стремится сам рынок. Ведь если этот матезис позволяет изучать полезность полезного, мы можем предположить, что она позволит решать вопрос «какой товар будет продаваться априори». Или «как возможен товар априори»? Таким априорным товаром как раз и являются совершенные духи Гренуя.
[1] Экономию картезианского mathesis’а можно уже представить в качестве борьбы с «непрозрачными» схемами. Собственно, тривиальный логический тезис, предполагающий сохранение истины в дедукции, получает здесь наиболее полную развертку. Истина нужна не для того, чтобы ее найти, а для того, чтобы можно было передавать ее – под полным контролем – по цепочке рассуждений. Декарт панически боится «фальшивых богатств», поэтому приходится обращаться к тому, что осталось. Чувственность – это еще и сфера слишком разных денежных форм, форм обмена, которые невозможно проконтролировать. Из ничего здесь может возникнуть все.
[2] Типичный пример приводит Дидро, обсуждая форму купола собора св. Петра в Риме. Микеланджело, как создатель купола, придает ему «прекраснейшую форму». Геометр Лагир анализирует кривую купола и обнаруживает, что это кривая с самой большой способностью сопротивления. Естественно, Микеланджело своим эстетическим чувством «знает» больше, чем знает в явной форме – он не мог быть дать отчет в своем выборе кривой.
[3] Если говорить о кантианской интерпретации «целесообразности без цели», которая напрямую не соотносится с проблемой данной статьи, то единственное, что сделал Кант, - так это сместил само понятие прагматического контекста – отныне эстетическое стало элементом (освобожденным в качестве знака) некоего жизненного прагматического контекста, а таким же элементом самого контекста познания. Иначе говоря, эстетическое говорит не о том, что было полезным или «подходящим» в плане практической деятельности, а о том, что может быть полезным в плане самого познания. Познавательный аппарат задает предельный горизонт любого прагматического контекста, поэтому прекрасное – в суждении вкуса – оказывается знаком того, что полезно для функционирования самого этого аппарата. Таким образом, изъяв эстетическое из реального мира, Кант обошел проблему его реалистической реконструкции и, одновременно, связал его с полезностью, которая не может быть выписана ни в каких реальных терминах, которая, иными словами, вообще не продается и не обменивается во всегда условных – гипотетических - контекстах. Это чисто рефлексивная полезность.
Дата публикации: 12.02.08
Проект: Библиотека форм
© Кралечкин Д. 2008