
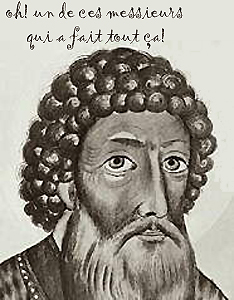
«Душа» — слово, на протяжении довольно долгого времени разделяемое между двумя словарями — словарем метафизики и словарем политики. Не задаваясь вопросом о возможном (и непременном) объединении этих словарей, а также об основании их различения – и, следовательно, странного «двоедушия», которое традиционно истолковывается как базовая модель и теоретического, и политического прегрешения, мы постараемся наметить вступление души в политику в той форме, которая известна под видом «русской души» как чего-то принципиально отличного от души вообще и политики вообще (то есть той политики, которая только и способна установить определенный режим универсальности).
Душа против политики
Известная метафизическая (и научная) оппозиция души и тела представима как производная по отношению к более радикальной оппозиции души и политики. Последняя всегда выстраивается по следующей логике: душа – лишь формальное определение той «интериорности», на которую не может претендовать политика, то есть некая анти-политика. Любая антиутопия зависима от такой базовой логики: «анти» в утопии появляется лишь тогда, когда то или иное политическое движение начинает претендовать на душу, включать ее в себя в качестве дополнительного двигателя. Дать определение души несложно: это то, на что политика не имеет права. Развитие сюжета стандартной антиутопии, по сути, является развернутым определением души (пример – «Мы» Замятина), то есть некоей «критикой» политики – критикой в кантовском смысле: цель не в том, чтобы опровергнуть тот или иной политический проект посредством футуристического моделирования, а в том, чтобы определить границы чистой политики, то есть политики как она есть, без прямого отношения к той или иной из ее форм. Интересно отметить, что в такой схеме взаимоотношений души и политики первая выступает в качестве некоей неизменной субстанции, которая – при недолжном аффектировании со стороны политики – способна провалить любой политический проект.
Наиболее известной антиутопией, которая выполняет контр-доказательство тотальности политики, является «1984» Дж. Оруэлла: если политика зависима от идеи беспредельной «пластичности», то душа отсылает к неизменному, но эта отсылка является пустой. (Не находя никаких иных аргументов в разговоре с О'Брайеном, Уинстон пытается доказать, что логика тотальной политики Партии несостоятельна благодаря «Духу человека», последней инстанции разрушения политики.) Душа в «1984», оказываясь лишь одним из синонимов более развернутого метафизического ряда, в котором обнаруживаются Бог и космос, окончательно объявляется догматическим предрассудком. Если наметить возможность критики политики в смысле определения ее границ, то проект «1984» оказывается наиболее последовательным в том, что он предполагает установление границ без того, что ограничивало бы политику: политика ограничивается не неким метафизическим пределом, который не позволяет ее распространяться слишком далеко, а своей собственной пластичной логикой.
Если предположить, что сама идея политики предполагает «душу» как собственную границу, означающее того, что «неподвластно политике», можно задаться вопросом: является ли такая метафизическая конструкция души универсальной? Если душа – это то, что внутри любого политического объединения или, наоборот, разделения, выступает в качестве некоей более «общей» логики, то возникает вопрос о появлении частных определений души, в том числе и о знаменитой «русской душе», для которой, похоже, слово «русская» не является определением, скорее, это то, что указывает на появление некоего неописанного образования, произносимого на одном дыхании: «русскаядуша».
Душа общества
Душа в рассмотренной выше элементарной конструкции может «работать» в качестве средства метафизического объединения помимо (текущей) политики: душа – это аполитический и аструктурный способ родства. В известном смысле, это то братство, которое было заявлено в качестве лозунга французской революции и которое всегда ставило в тупик ее политическую историю. Но эта форма «душевной» политики предполагает возможность задания души одновременно в качестве предела беспринципной и кулуарной политики настоящего, инициируя действительную, прогрессивную политику будущего. Представляется очевидным, что структурация «русской души» принципиально иная, хотя она и не обладает той искомой «идиомой», которая всегда утверждается в качестве ее априорного качества. Иными словами, русская душа может быть потомком нерусской, однако дочка за мать не отвечает.
Идеология французской революции могла быть выражена в одной фразе – «Прогресс не остановишь». Прогресс – не качество того или иного участка история, а условие его определения, поэтому-то французская революция, независимо от того, оценивать ли ее в качестве шага вперед или отступления к варварству, остается событием, создавшим Европу.
Наше первое предположение строится по простой логике: объяснение невозможности «западного» объединения России и российского общества, ссылающееся на загадочную русскую душу, «свой путь», «другой менталитет» и т.п., заслуживает особого внимания именно в том пункте, в котором в ход идет душа. То есть загадка русской души, возможно, не в том, что она русская, а в том, что это душа . Предваряя набросок возможного генезиса русской души, так же как и всех способов аргументации, которые покоятся на прямой или косвенной отсылке к ней, сделаем еще одно предположение – душа становится в России душой как способом пометить невозможность последовательного, прогрессивно-отчетливого продвижения, которое с некоторых пор стало одним из синонимов политики как таковой. Иначе говоря, душа – это просто то, что не подчиняется неким реальным или воображаемым законам социальной физики, однако такое «сопротивление души» не обязательно выстраивается по модели метафизического ограничения политики.
Для объяснения происхождения русской души можно обратиться к восстанию декабристов, которое стало событием, на базе которого осуществляется смена стандартного исторически-прогрессивного объединения общества (по масонской, то есть по преимуществу западной модели) на обсуждение той проблемы, возможен ли вообще прогресс в условиях русской души. Вопрос декабристского восстания – это вопрос о том, что это было – собрание или восстание. Историческое исследование декабристского восстания часто сводилось к выяснению того, кто приехал на это восстание, а кто нет, то есть это такое восстание, на которое можно было успеть, а можно было и опоздать. Был ли Пушкин декабристом – это вопрос не Пушкина, а декабристского восстания, которое наметилось как первое русское объединение. Центральный характер различия собрания/восстания объясним тем, что в декабристском восстании, которое должно пройти по классическим законам прогресса, сам неумолимый ход прогресса (то есть просто ход как ход, нечто отличное от других способов исторического существования и нечто, задающее отличие истории от политики или истории от политической истории) постоянно деструктурируется тем, что кто-то не пришел на «назначенное» восстание (анекдотический заяц перебегает дорогу Пушкину, и он не едет на восстание, почувствовав, что политика декабристов невозможна). Усилие декабристского восстания – это усилие, направленное не на восстание как таковое, это не силы, брошенные в борьбу, а силы, изнемогающие в попытке восстановить сам способ исторического объединения российского общества, до которого, по мнению декабристов, Россия просто не существует.
Декабристское восстание заканчивается ничем – даже если мы будем считать, что оно носило коммуникативную функцию некоего сигнала, поданного царю. Другими словами, нельзя сказать, закончилось восстание или нет, усилие, нацеленное на создание восстания, столкнулось с тем, с чем не может работать логика прогресса, – с невозможностью разбиения истории на некие осмысленные участки, «исторические события». Интересно отметить, что дело не в каких-то заблуждениях самих декабристов, то есть нельзя сказать будто бы их политическое «воображение» столкнулось с суровым царем-законом. Пример петрашевцев показывает, что неизбежно возникает некое дублирование характерного исторического «пшика» любого «проекта прогресса». Часть петрашевцев казнили, но не всех, более того, другую часть не просто помиловали, но полностью изобразили невозможность доведения до конца даже такого простого дела как казнь – по плану сорвавшаяся казнь служит гораздо более жестоким уроком не из-за своих «садистических» составляющих, а как раз показывая, что царя свергнуть не удалось, но это не сила царя, а некий онтологический закон, которому царь подчиняется более, чем социальному закону и именно поэтому он «милует» петрашевцев. Милость царя оказывается модификацией невозможного цареубийства, провала любой попытки силой выполнить политическое действие.
На месте невозможного объединения возникает замещающий проект – проект русской души, которая оказывается на месте невыполнимого единства. «Мы едины только в том, что ни один проект единства на нас не действует» – такая формулировка положения русской души может быть принята лишь условно, поскольку душа возникает как то, что только и может реально объединить. Русская душа – не некая «природная» специфика, которая отличает русского человека от любого другого так же, как этот любой отличается от третьего. Русская душа не существует в качестве какой-то природы русского человека, как, например, считали евразийцы, она возникает как проект по собственному созданию. Русская душа – это то, что может объединить, когда никакое общее дело уже не объединяет. Неприродное происхождение русской души постоянно подчеркивается ее тривиальной конструкцией – у русской души нет никакого определения, все сводится к тавтологическому заданию души по формуле «либо русская душа – это русская душа, либо русская душа – это не русская душа». Интересно отметить, что российская «нехватка прогресса», заявленная еще Чаадаевым, после того, как прогресс перестал быть рабочей моделью объединения, сменяется на принцип души как избытка: русская нехватка исторического единства «в действительности» (например, по мнению Киреевского и прочих славянофилов) является избытком (то есть самой душой, которая всегда есть что-то, что есть «кроме», помимо чего-то другого), тогда как настоящей нехваткой и нищетой поражена Европа: главный пункт историософии славянофилов состоит в том, что Европа и любое ее историческое свершение принципиально неполны (при этом славянофилы не отдают отчета в том, что эта неполнота производна от более загадочной неполноты – неполноты России в отношении к самой политической истории).
Русская душа принципиально не может стать «действительным» единством, покуда она существует только в невозможности завершить спор западников и славянофилов (который на поверку оказывается спором одни и тех же – по словам Герцена – то есть спором ради спора). В противном случае выполнения некоего содержательного единства русская душа выступила бы как то, что уже не может замещать травму нехватки прогресса. В то же время она не может выступить в собственной отрефлексиованной форме, то есть политика в условиях русской души не может совершить прыжок в царство дискурсивного разума, заявив – раз наше единство состоит в нашем споре и разделении, давайте больше заботится об условии спора и разделения, которое как раз и составляет действительное условие нашего единства. Русская душа – это не то, что противостоит политике как некая субстанциальная граница, и не то, что выступает в качестве пружины самой политики. Скорее, в ее генезисе можно заметить логику «травмирования душой» – уникальной травмы, которая заключается в том, что какие-то политические проекты, самые элементарные, «не проходят», что как будто указывает на существование души – русской души. То есть не душа служит материалом травмы, а сама она возникает как агент травмирования: после декабристов травма состоит в том, что политика неожиданно для себя доказывает «существование» души в натуральном виде (как если бы медицинские эксперименты сомнительного толка позволили установить вес индивидуальной души). Эта связка травмы, неопределимого качества души (душа существует, но что она такое – неизвестно, это чистая экзистенция) и неожиданности ее появления проявляется на примере «праздников» как моментов идеологии политического и социального объединения.
Травмированные душой
В последнее время в сфере политических элит нашего общества активно обсуждался вопрос создания идеологии, которая способна объединить наше общество. На роль объединяющих событий прочат и победу футбольной сборной, и праздники, которые как будто бы стоят вне любой идеологии , оставаясь естественным объединителем общества. К числу «подлинных» праздников, которые могут претендовать на такую роль, в настоящее время выдвигаются Новый год (как праздник сохранения семейных ценностей) и День Победы.
Новый год, заменивший Рождество, как праздник по преимуществу идеологический, в действительности является праздником инкорпорирования семьи в государство – в этот праздник каждая семья собирается как семья, делая это в государственном масштабе, – именно таким образом, продуцируя саму идею государственного объединения. Другое дело – День победы, который должен был выступать в качестве именно государственного праздника, оказавшись праздником сверх-государства или, точнее, праздником, за который государство не в ответе (так же как оно не могло быть в ответе ни за начало войны, ни за ее победное завершение). Эмпирически несложно заметить, что День Победы не был бы столь великим праздником, если бы он не был всегда неожиданным (пусть и не в плане рационального исторического повествования), если бы он не испытывался всегда в качестве чрезмерного потрясения неожиданным результатом. Аффект передается «праздником со слезами на глазах».
В XIX веке русская душа как ответ на невозможность западного объединения (отличать от объединения с Западом) существовала в тавтологической и пространственной теории западников/славянофилов (оппозиция здесь/там), тогда как советская праздничная идеология заменяет ее на объединение в регулярном временном повторе, который резко отличается от обычной логики праздника как выделенного промежутка времени, когда мы что-то намеренно вспоминаем. Можно предположить, что логика праздника при этом начинает работать на воспроизведение генезиса русской души, то есть нужно сделать так, чтобы не возникало впечатления, что она – всего лишь некое отличие русского от нерусского. В празднике Победы знаки Победы постоянно должны возвращаться туда, где для них нет никакого места (так, один из современных поп-деятелей исполняет песню из своего обычного репертуара, не имеющего никакого отношения к военной тематике, в военной форме, неизвестно откуда взявшейся). Знак Победы должен быть сингулярен, то есть он всегда говорит против любого «языка победы» (в стиле «мы победили потому-то и потому-то»), это знак, который неотличим от «души». До сего момента праздник Победы – это праздник возвращающегося знака, который подчеркивается тем, что он никуда не встроен, а главное – живыми ветеранами, которые выполняют функцию точно таких же знаков – они только ветераны и не более того. День Победы – это заранее назначенный день, в который, тем не менее, ветеран возвращается совершенно неожиданно для всех членов общества (возможно, и для самих ветеранов, которые в любое другое время остаются такими же обычными членами общества). Более того, в любое другое время ветеран остается более забытым чем любой другой, и только в день Победы ему отдаются чрезмерные почести, которые были бы невозможны в нормальном символическом порядке (в том порядке, когда существуют разделяемые всем обществом ценности), когда общество в течение всего года равномерно и рационально помогало бы ветеранам. Общество объединяется в такой день, который заранее задан как день рождения ветеранов (ветеран – человек, который нужен затем, чтобы много раз рождаться в качестве ветерана, возникать неизвестно откуда). Тем самым пространственная логика определения души сменяется на более эффективную трактовку травмы как таковой, которая всегда связана с собственным временем.
Сделано с душой / Made by Soul
Из этого рассуждения можно сделать существенный вывод, касающийся самой постановки проблемы объединяющей идеологии. Объединяющая идеология явно или неявно отсылает к функционированию в данном обществе памяти, которая обязательно трактуется в качестве определенной «способности», которой мы способны распоряжаться и управлять, управляя таким образом самими собой как неким единством. Русская душа является не фигурой доверия к памяти (или к самой себе), а стремлением вернуть себя в качестве неожиданного возвращения. Объединение в условиях русской души осуществляется так же, как возвращались в семьи те мужья, на которых жены уже успели получить похоронки. Отсюда значимость сюжета «возвращения в никуда» – от рассказа А.Платонова до недавнего фильма режиссера А.Звягинцева.
Примеры стратегий русского объединения не являются случайными для политики уже хотя бы потому, что она сама может быть определена как «движение объединения»: любая политика устанавливает тот или иной режим единства. Однако, нам важнее было продемонстрировать на примере возникновения русской души как проекта по замещению невозможного политического объединения, саму конфигурацию отношений политики души, которая в ее «русском» варианте отличается от рассмотренных в начале статьи. Это отличие не является простой спецификой, неким местным колоритом политики (то есть разговор о душе политики не может быть сведен к простому мультикультуралистскому рассуждению), «русская душа» обозначает отличный способ утверждения и души, и политики.
Намечая классификацию таких способов, можно выделить следующее. Обнаруживаемое в стандартной антиутопии классическое задание души и политики строится по логике некоего неподвижного центра, который дремлет до момента аффектации политикой: как только такая аффектация переходит тот или иной предел, душа наносит ответный удар своим собственным существованием, то есть онтология души – это просто онтология в ее классической форме как онтология субстанций. Второй проект отношений души и конституции политики выявляется как радикальная критика политики, устанавливающая невозможность установления ее внешних границ («1984»): бессмысленно надеяться на внешнее политики, если мы неспособны решить наши проблемы политически. Несомненно, что именно этот проект, заявленный в антиутопии Оруэлла, является базовым для современного западного общества. Душа во втором проекте либо объявляется заблуждением, возникающим на окраине политического поля, либо же она является лишь синонимом автаркии, наиболее совершенной политической формы, к которой стремится политика как таковая. Третий проект, заявленный в форме «русской души», принципиально отличен и от первого, и от второго. Он возникает тогда, когда под сомнение ставится возможность самого политического движения, как и его определимости. Раньше политическое движение выписывалось по модели природного: любое политическое тело вовлечено в систему политических движений, размеры и траектории которых вполне определимы. Мир политического опыта сам по себе не может быть деструктурирован, так же как не может быть деструктурирована последовательность – пусть и ассоциативная – причин и следствий, хотя мы и способны задумываться о самой причине причинения. В модели же русской души любое политическое движение оказывается принципиально невыполнимым, поэтому русская душа начинает играть двойную роль: с одной стороны, она служит в качестве бессодержательного принципа бесполитического (но не антиполитического) единства, возникающего как продуктивная тень непроизводительной политики, а с другой, она осуществляет возможность бесконечного повтора политики как таковой. Русская душа более зависима от политики чем аполитичная душа первого проекта или несуществующая душа второго, другое дело, что такая зависимость осуществляется по более сложной схеме, которая полагает душу в качестве алиби (но не условия) и любого провала политики, и любого ее возобновления: субстанциальная иллюзия души возникает как «объяснение» невозможности политики, как то, что «мешает» политике, но такая субстанциальность жестко зависит от фактов несостоятельности политики, а не образует некий независимый регион. Иными словами, русская душа принуждена к повторению политики, которое объясняет, что она сама становится политическим повторением, постоянно откладываемым и вновь выполняемым политическим действием, которое не может удостовериться в своей достаточности.
Если вернуться к теме «критики политики», то можно заметить «посткритический» характер русской души: она сама обоснована необходимостью особого политического устройства. Более того, можно спроецировать кантианское распределение «критик» на оппозицию души/политики, чтобы выяснить одну замечательную подробность: именно «русская политика» становится «чистой политикой», то есть той, что ставит единственную задачу – задачу объединения, и именно поэтому никогда не может быть окончательно проанализирована на предмет осуществления такой задачи. Русская политика оказывается «бесконечным анализом» «политического» как такового, причем «русская душа» является уже не «загадкой», требующей деконструкции, а аналитическим моментом, необходимым и доказанным для существования чистой политики, которая стремится отличить себя от любого частного, «гипотетического» усилия (в терминах Канта «гипотетическое» действие оказывается как раз конечно анализируемым, в отличие от чистого практического действия, которое нуждается в бесконечном анализе и бесконечном самоповторе, залогом которого и служит душа). Отличие политической схематики русской души от схемы практического действия Канта заключается в том, что сама неосуществимость политики выстроена как ее собственный онтологический закон, а не как некая раздвоенность любого действия: русское политическое действие грешит не раздвоенностью, а неокончательностью, то есть дело не в том, что любой политический жест скрывает под собой прагматическую (и потому абсолютно «гипотетическую») составляющую, а в том, что он неопределим даже в таком двойном анализе, в двойной бухгалтерии практического разума. Русская политика строится на оппозиции политики и русской души, но разум в таком союзе может появиться разве что в качестве собственной «хитрости», которая на протяжении многих революций присваивалась той или иной партикулярной политической силой.
В конечном счете русская душа как средоточие стратегий такого объединения, которое заведомо предсказывает ограниченность политики, находится как бы на полшага впереди нее, создает условия для вопроса о соотношении практики в широком смысле слова и политики. Если русская душа не может быть восстановлением практического «разума», поскольку, по сути, она всегда связана с проницаемостью (и даже отсутствием) границ практического и теоретического, она, тем не менее, создает вторичные концептуальные границы, например предполагая, что с душой можно делать все, что угодно, но только не политику. Поскольку русская душа хочет быть душой политики без политики, последняя оказывается в принципе лишенной душевных инвестиций. Но это, в свою очередь, приводит не к некоей социальной диглоссии (разделению регионов души и политики), а, фактически, к такой политике, которая, будучи лишена души, принуждена постоянно доказывать ее существование. Только последнее обещает завершение политики неполитическими средствами.
Дата публикации: 07.05.05
Проект: Реактор
© Кралечкин Д., Ушаков А. 2005