
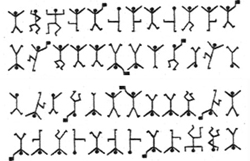
(Продолжение. Начало – «Философия в пассиве» )
Любое описание работы философских институций всегда тяготеет к эмпиризму, который готов отстраниться от любой философии. В лучшем смысле можно получить модель социальной реальности, зависящую от исходных методологических посылок. Но в ситуации сомнительного существования философии в России в постсоветское время есть и другая возможность – вместо попыток безуспешного присвоения социальных императивов или чисто социологического исследования (что бы оно ни значило), стоит, возможно, понять сам философский «провал» (или «молчание») как приключение, в котором неявным образом были поставлены под вопрос именно те фигуры философии, которые сейчас представляются в качестве обязательных и уникальных. Вместо игры «вписывания» философии в тот или иной тренд социальной ответственности («новации», «критики» и т.п.) здесь предлагается посмотреть, какая именно микроигра осуществляется в каждом жесте вменения ответственности и в каждом сеансе нормализации философской работы, осуществляемой изнутри нее самой. Ключевым вопросом здесь является восстановление консервативной фигуры философии в движении повторения гегельянства без Гегеля. То есть в движении, предполагающем реабилитацию некритической концепции истории с одновременной редукцией философской работы к некоему «интерпретативному» образцу.
Назад в пещеру
Структура, которая формируется в результате тех трансформаций, которые будто бы остались без ответа со стороны философии, – не того рода, с которыми философия могла бы снова сыграть в старую игру «совы в сумерках». В действительности, любой анализ «молчания» философии продуктивно использует тот факт, что наиболее существенным оказывается не то, что нечто случилось, а то, что была восстановлена консервативная фигура философского созерцания вместе с классическим распределением позиций философа-созерцателя и истории-реальности: случилось так, что теперь нечто постоянно будет случаться, на что придется отвечать философу , призванному осмыслять принципиально бессмысленную (в оптимистическом прочтении – удивительную) реальность. В этой вполне консервативной конфигурации философия отвечает за все – и за падение башен-небоскребов, и за падеж птицы в Таиланде. Однако сама эта «инициация» событий, которые еще только отложены на будущее, не является тем «великим историческим событием», которое философы в силу каких-то эмпирических причин пропустили. Ситуация существенным образом отличается от простого «пропуска» своего хода (философия – во всех обвинениях, подчеркивающих ее неактуализируемость, – пропускает свой ход, когда удивительное уже случилось – это ли не странно?).
Экономить удивление
До того, как философия была обвинена в пропуске своего хода, в пассе, должен был следовать некий ход истории, однако ходу философии предшествовала принципиально несозерцательная и неинтерпретативная позиция как философии, так и самой истории – так что их различие не могло быть установлено в том виде, в каком оно категорически преподносится в качестве обязательного условия философской ответственности и продуктивности вообще. Ход «удивительной» истории сам набрасывается вторым шагом – то есть после действительно консервативного изменения соотношения философии и истории: после такого изменения все представляется так, как будто это «было» «простое событие», на которое философия только и могла, что ответить. Такая «историческая» трансформация, которая очевидным образом затрагивает саму концепцию «исторических трансформаций», действует – уже в своем последействии – наподобие некоей тотализирующей теории, скрывающей момент действительно существенного разрыва, представляющей этот разрыв уже с позиции установившейся «хаотической» истории удивлений, к которой философия предписана в качестве ответчика. Можно хронологически, но не исторически говорить о смене одной теории истории другой, но сама эта смена нуждается в исторической интерпретации, каковая осуществляется в теле теории истории как истории событий/удивления, так что стоит заключить о всего лишь закреплении самого «аффекта» исторически неопознаваемой трансформации в более чем классической теории.
Следствие такого разрыва и его моментального скрытия не только в том, что теперь мы имеем дело с одной исторической теорией (гласящей, что история – это история исторических событий, за осмысление которых ответственна философия), которая само свое установление-возвращение неизбежно интерпретирует в качестве «еще одного события» в ее собственных пределах (установление такой теории может быть описано в ее терминах не в качестве инициации, а в качестве эмпирического события, одного события среди многих событий потенциально бесконечного удивления – в этом смысле теория истории как истории событий является самоприменимой , в отличие, например, от историософии Л. Гумилева), но и в том, что тезис о «пропуске» философией больших событий в действительности скрывает «более» существенные моменты, которые структурно не укладываются в созерцательное отношение философии ко всему окружающему – подобный тезис исключает «большими событиями» то, что в поддерживающей его теории событием вообще не является. Налицо определенная экономия удивления – чтобы поддерживать свою структуру, истории удивления необходимо представлять саму себя в качестве само собой разумеющейся. События истории – это всегда то, что гарантирует удивление в области обычной «доксы», где «всякое бывает» или «никто ни от чего не застрахован».
Теоретическая конструкция события действует в таком случае как ловушка и для истории, и для философии – любая трансформация, дающая условие для событий (и вычисляемая post factum) оказывается тоже событием , просто, возможно, б о льшим. При этом событие – это просто то, что всегда может быть больше самого себя («вы еще не поняли, насколько удивительно было то, что оказалось перед вашими глазами» – историческое событие всегда не помещается в головы современных историков). Логика истории событий и удивления, которому философия не хочет почему-то соответствовать, забывая, очевидно, о своем предназначении, – это непростая логика «эмпирического величия»: событием остается все, что больше самого события, но лишь при том условии, что оно продолжает нас удивлять, предполагая, что логика удивительного бесконечно продлевается – нет ничего «предельно удивительного», что уже не удивит нас, а сделает с нами что-то иное. Такая история задает внутреннюю механику построения своего собственного предела в том смысле, что предел всегда внесен вовнутрь, он структурирует то, что никогда не доходит до собственного конца. В результате теория события-удивления вторым шагом паразитирует на том непонятном, с которым неясно что делать – и не философии, а всем вместе. Трансформация, захватившая и историю, и философию в советском «пространстве», стирает сама себя эмпиризмом событий: она сама вводится как «еще одно событие» в сфере многих, как возвращение к некоей более фундаментальной игре, в которой различие разных способов структурации самой истории и отношения к ней философии выглядит неуловимым или малозначительным.
В конечном счете предполагаемое молчание философии в пределах бесконечного саморазмножения исторических событий и автономизации истории как истории событий/удивлений могло бы быть описано не как пропуск философией своего хода, но как начало удивления – возможно, философия просто выдерживает паузу, прежде чем ответить. Ведь новейшими «трансформациями», которые в силу указанных причин не могут поддаваться «исторической» реконструкции, философия снова сведена до позиции ребенка – infant 'а, того, кто, открыв рот от удивления, еще только готовится сказать свое первое слово. В подобного рода интерпретации – безоговорочно принимающей теорию «великого исторического события», которое было пропущено, – никакого существенного упрека в адрес философии вообще нельзя высказать – упрек может быть только эмпирическим. Может быть, пауза после удивления оказалась слишком велика, и нам просто надоело ждать от философии того слова, которое она вот-вот скажет, а может, она стала ребенком, который не может заговорить вплоть до подросткового возраста. В любом случае это вопрос педагогики, в том числе и коррекционной. Или же тактики: философ – это буквально «язык», которого нужно взять и привести в такое состояние, чтобы он мог сказать о том, что происходит (иначе мы это просто не узнаем). В той истории удивления, которая принуждена соблюдать собственную экономию, именно на нее возлагается ответственность за молчание философов. Ведь если история стала историей событий, в числе которых всегда может быть то, что больше любого другого события, только эта история ответственна (хотя она и не может сама за себя отвечать) за молчание философов, которые просто онемели от испуга. Не нужно было пугать, ведь теперь придется слишком долго отходить от такого испуга. Или же вопрос всего лишь в скорости приспособления к внешним изменившимся условиям? Но тогда философия спокойно может мутировать во все, что угодно, и вопрос о ее ответственности будет снят. Человек-паук не отвечает за то, что он прыгает по небоскребам.
Письмо пробелов
Но именно такая прямолинейная интерпретация, согласно которой с философами нужно работать как с детьми, не учитывает того, что трансформацию, повлекшую инфантилизацию российской философии, невозможно прочитать просто как «великое историческое событие». Согласно рассматриваемой консервативной и одновременно обобщающей свое последействие концепции истории, последняя – это, скажем, фундаментальное устранение всяких фундаментов, которые могли – в соответствии как с новоевропейской метафизикой, так и с марксизмом – предполагать собственную инструментализацию и утилизацию. История, идущая рука об руку с принудительной инфантилизацией философии, вводится как история, потерявшая всякую возможность собственного опосредствования. История – это то, что всегда больше любого инструмента истории. Но тот факт, что возвращение истории событий оказывается осуществлением ожиданий Корейко, не позволяет скрыть вырвавшуюся из теории событий тривиальность – принципиально иного толка, чем просто некое расстояние от одного события до другого.
Экономия событий предполагает, что всегда есть определенный пробел между двумя событиями. В наиболее отчетливой форме теоретизацию подобного пробела можно увидеть в концепции А. Бадью. Пробел – это и есть то, что существует, но существующее оказывается антитрансцендентальным условием события, то есть неким негативным фоном, который порождает событие логически – как нерожденное (например, как Вечность – вечность самой истории со всеми теологическими и языческими коннотациями: любая история оказывается историей Вещего Олега, который не может избежать собственной истории даже в том случае, если знает предсказание о ней). Из экономии событий, обеспечивающей созерцательную структуру философии, следует, что как раз «момент» перехода от несозерцательной истории-философии к созерцанию и ожидаемому от философа-ребенка ответа вводится не как событие, а как необходимый пробел для любого события. Он вводится как тривиальность, то есть как некий необходимый структурный элемент ожидания, экономизации нашей возможности что-то созерцать. Иначе говоря, это одновременно событие принципиальной десубъективации.
Если в 90-х осуществляется мечта Корейко, то именно в том смысле, что это не мечта, а Корейко – не тот человек, у которого могла быть мечта. Позиция Корейко не симметрична мечтателям XIX века, например, героям Чернышевского, которые постоянно видят сны. Корейко вообще не спит, потому что мечта о капитализме не может выполняться в форме мечты, это всегда тупая (коровья) уверенность ограниченного человека в ограниченности и серости всего происходящего, на фоне которой проект советской власти выглядит как субъективное – капризное – чудачество. Остап был расистом, когда утверждал, что Корейко, история которого оказывается больше его биографии, включая в нее нас, произошел от коровы, а не от обезьяны, как все остальные граждане. Но Остап относится к своей мечте как «идиот», то есть он – в противоположность обычной интерпретации этого текста – является неким «коммунистом богатства», человеком, строящим коммунизм в отдельно взятой индивидуальности, тогда как корова не собирается мечтать о том, чего не может быть. Корейко забыт Остапом в среднеазиатской глуши, но 90-е образованы сведением всего советского строя к этому неопределенному заброшенному месту, к азиатчине с «кимвалами». «Событием» оказывается не нечто невозможное, а успех неэволюционирующей коровы по сравнению с продвинутыми гоминидами.
При этом Корейко не так прост – ведь он выполнен как некая рефлексивная фигура по отношению к простому коровьему ожиданию, которое ничего не ждет, – он занят лишь ожиданием того, что не может не вернуться, больше он ничего не делает, то есть его действия – это чистое ожидание, которое интенционально никак не связано со своим предметом. Корейко – это еще и чистая эволюция, которая выполняется не эволюционным процессом – то есть мутациями и отбором – а чистой работой времени , ожиданием как его проведением: нужно упорно убивать время, чтобы родилось то, что иначе не родится, тривиальность. В чистой эволюции убиваются не конкуренты, а само время конкуренции (радикализированный вариант лозунга «а мы уйдем на север!»). Иными словами, Корейко – это сведение всего к тому, что можно сделать только «задницей», высидеть.
Именно здесь заметно наиболее существенное противоречие в истолковании 90-х как одной цепочки событий или одного большого события: неопределенная по своему статусу трансформация отношения философии и/к истории стирает саму себя посредством презентации себя в качестве «события», причем это событие оказывается тривиальностью. Следовательно, мы имеем дело с трансформацией, которая в принципе не может быть описана как одно из событий в рамках истории удивления: такая история должна была бы представлять свое собственное начало или повторение как величайшее событие, как некий максимум истории, однако содержательно это «начало» вводится как пролог к событию, как та логика пробела, которая уже ожидает событий, то есть мы сталкиваемся с самим моментом «прежде» натурализации истории удивления – моментом, когда она должна выполнять определенное условие, которое явным образом выводит ее из себя, не позволяет представлять ее в качестве собственной обобщающей и обобщающейся природы. Это условие показывает, что мы действительно имеем дело с определенной структурой, которая не устраняется и не натурализуется. В ней само «удивление» должно постоянно скрывать пустоту самого этого занятия.
«Событием» оказывается возвращение тривиальности, которая уже не должна была вернуться в условиях строительства коммунизма и которая возвращается именно как определенная «цитата», которая служит лишь для обозначения пробела. Тривиальность – это даже не сам пробел, это его обозначение, так что история событий, тяготеющая к собственной натурализации, работает только по внешним для нее структурным принципам – за интерфейсом событий скрывается «железная логика», которой нет дела до воздействия на конечного пользователя. Можно заметить, что если возвращение событий осуществляется только как введение тривиального пролога к ним, событие – совсем не то, что всегда удивляет нас своей неожиданностью, на деле каждая неожиданность должна быть «номером». Событие – то, что всегда противодействует наивной феноменологии, которая позволила бы выход конферансье на сцену воспринимать как номер среди других номеров. История удивления предуведомляет о самой себе так, что это предуведомление в принципе не может быть событием, которое было бы, по общей логике истории событий/удивления, достойно такого имени. Поэтому-то можно говорить о том, что мы имеем дело именно с установлением и трансформацией структуры, а не с натуральным выполнением события как такового.
Капитализм без понятий
В действительности предполагаемое в качестве «великого» события возвращение «капитализма» является не возвращением в рамках какой-то «реальной истории» – в том случае, когда описывается отношение философии к истории, ведь это прямая «цитата» на капитализм как способ указать на возвращение истории событий. Капитализм здесь используется не в его «научном» смысле, то есть не понятийно, а именно как элемент структурации истории удивления, претендующей на покрытие не только всего политического, но и концепутального «пространства». В самом деле, капитализм должен вернуться как пролог истории событий именно потому, что эта история не могла бы начаться с чего-то «действительно» событийного, без восстановления собственной экономии, без расстановки созерцательных позиций, то есть, иными словами, без объявления. Капитализм России 90-х оказывается не только чем-то эмпирическим – он используется как структурный элемент, работающий через коннотацию: ангажируется представление о капитализме как о «неуправляемом» социальном состоянии, именно эта коннотация неуправляемости и событийности (некая рука Антисмита или «левая рука Смита»), которая всегда оказывается внешней по отношению к логичности всех агентов капитализма, выступает в качестве «структурного капитализма» как условия того, чтобы стали возможны такие события, которые возможны в капитализме без марксизма.
Российский «капитализм», задающий структурацию поля ответственности (в том числе философии/истории), выступает в качестве перформатива капитализма: «капитализм» здесь – лишь неизвестная социально-экономическая сила, которая всегда остается внешней самой себе, так что она производит события, которые не удается связать каким бы то ни было социальным агентам, и в то же время именно по этому «собственному закону» капитализм возвращается в Россию, демонстрируя свою перформативную силу: «внешний» характер капитализма в итоге побеждает рационализирующую силу марксизма и строительства коммунизма не каким-то внешним (демонстративным) примером или неожиданным следствием внутри самого коммунизма (когда бы, например, коммунизм получился – но в том виде, в каком его нельзя было бы узнать), а просто своим собственным возвращением (возвращается только капитализм и не более того), предельной демонстрацией своей собственной несубстанциальной истины. Капитализм возвращается в Россию как самоподтверждающаяся истина капитализма, его полная аутоверификация – и одновременно необходимая верификация его «внешнего», «неуправляемого», «непрогнозируемого» и событийного характера, то есть именно капитализм как уже известное и самоподтверждаемое становится знаком истории событий.
Центральный момент работы такого перформатива заключается в том, что капитализм исключается из собственного определения, которое было дано в рамках марксистской теории развития производительных сил. По сути дела, капитализм – это единственная экономическая формация, которая была опознана самой собой в качестве того, что (1) строится на в принципе неуправляемых закономерностях и (2) неминуемо должно быть преодолено историей как историей отрицания собственной событийности. Но новый капитализм оказывается неким остатком от марксистского определения, поэтому, возможно, он уже не может иметь такого названия. Капитализм без марксизма (то есть капитализм без научного коммунизма) – это еще большее противоречие, нежели сам капитализм в его марксистской интерпретации, но именно такое противоречие оказывается задействованным в «истории событий», на которую философии «необходимо дать ответ».
Два капитализма
Возвращаясь к вопросу о странным образом и по-разному регистрируемом провале российской философии в 90-х, необходимо отметить, что невозможно ни объяснить этот провал, ни каким-то образом подремонтировать его, если вписывать саму философскую работу в такую структуру ответственности, где она заведомо не может ничего сделать , если налагать на нее такие ограничения, при согласии с которыми любой философ принужден валять ваньку, то есть, например, старательно отвечать на те вопросы, которые якобы задаются современностью. В то же время именно анализ самого описания провала, условий социального вовлечения философии, конструирования философской фигуры ответственности мог бы стать философской задачей, решаемой в том числе и при помощи деконструкции дискурсивных образований, которые предлагаются философии (причем самими философами, то есть предлагаются ей самой себе) в качестве очевидных условий ее продуктивности. В таком случае производительность философии не может быть формально зафиксирована по факту «отмечания» по тем вопросам, которые приобретают актуальность, хотя это, естественно, не говорит в пользу ограничительного продолжения «philosophia perennis» как единственной возможности. Другое дело – понимание того, что предлагаемая философии карта никогда не оказывается карт-бланш, а между краплением и окроплением существует разница, не позволяющая нарисовать на предложенной карте четкую программу «подъема» философии и становления интеллектуала в России.
Указанный разрыв между «теориями истории», которые всегда отличаются от натурализованного хронологического изложения, поскольку он не может быть описан напрямую без введения ряда посылок, внешних для обеих теорий, оказывается проблемой, которая не решается обобщением. Фактически, его можно зафиксировать только через описание тех гетерогенных утверждений и императивов, которые обращаются на философию. Такая фиксация не является «осмыслением», поскольку рассмотренная структура начального события как возвращения капитализма оказывается, возможно, принципиально неконцептуальной – это как раз та точка, где не выполняется работа способности суждения. Однако даже в таком случае можно говорить о возможности извлечения следствий, которые существенным образом отличаются от того, что мы бы получили, отвечая в лоб на те вопросы, которые как будто были заданы философии в 90-е. Так, философской проблемой оказывается не столько одновременное существование разных стадий, состояний и т.п. капитализма, то есть разных модусов «реальности» самого капитализма (с делением мира на развитые страны и уже не развивающиеся), сколько такое использование теории капитализма в капиталистическом мире, которое a priori исключает марксистскую утилизацию последнего. Если Маркс отказывался от интерпретативной (в смысле interpretieren «Тезисов о Фейербахе») позиции, сейчас сама теория капитализма «работает» в неинтерпретативных режимах, различать которые – задача философов. Наиболее очевидное различие, связанное и с обсуждаемой исторической трансформацией, – использование теории капитализма как индекса неизбежной «превращенности» любых социальных взаимодействий – в России, и декларативное политическое использование как предлога политики – в Восточной Европе (если говорить о некоторой идеальнотипической модели России и Восточной Европы). В первом случае капитализм выступает в качестве морализующей метки невозможности предельного анализа и инструментализации социальной действительности (то есть это мораль чистой патологии – в кантовском смысле «патологии»), во втором – в качестве именно инструмента для собственной политической инструментализации, отказывающейся от доверия к анонимным законам создания подобного рода инструментов. Другими словами, в случае России капитализм уже не читаем, это не некий теоретический код или определение, а код, раскрывающий превращение любого кода в онтологические каракули, своеобразная folk deconstruction, приводящая к исчерпанию любого устойчивого смысла и любой экономии, тогда как для Восточной Европы это, скорее, метафора политики и политического как освобождения от Советов.
Дата публикации: 22.08.06
Проект: Философские институции
© Кралечкин Д. 2006