
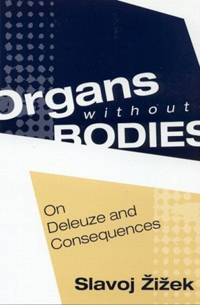
[Zizek Slavoj, Organs without Bodies. On Deleuze and Consequences, Routledge, NY and London, 2004]
Жижек пишет книги о философах примерно в том же стиле, что и о кино или режиссерах. Теория по их поводу, с одной стороны, находит в анализируемом «примере» больше, чем в самой себе, однако не может избежать рационально-спекулятивного искушения – она хочет знать о них больше, чем они. Ей хочется все больше и больше – в конечном счете, чтобы примеры были у нее на посылках.
Делез – это тот, кто не Гваттари
В случае Делеза эта типичная проблема связана уже с тем, что Жижеку пришлось иметь дело с материалом, который требует предварительной обработки. С сырым материалом. Делез совершает слишком много «ненужных» телодвижений. Например, в период политических волнений конца 60-х уже бытовало недоумение – «понятно, зачем все это [политическое ангажирование] нужно Фуко, но не ясно, зачем это нужно Делезу, и кто он такой вообще…». Это недоумение и недовольство еще больше усиливаются из-за «злого Двойника» Делеза, то есть Гваттари, который осложняет жизнь Жижеку настолько, что тот готов пойти на «процесс века». Один из наиболее успешных философских браков XX столетия расторгается после смерти супругов. Книга «Органы без тел. Делез и последствия» является, в числе прочего, одним из элементов этого бракоразводного процесса. Весьма желательно было бы привести Делеза в то же состояние, в какое был приведен Маркс, лишившийся в конечном счете своего натуралистического, слишком простого и все упрощающего двойника-спонсора – Фридриха Энгельса. Итак, Делез без Гваттари, Маркс без Энгельса, братья Маркс без Маркса, кофе без кофеина… – вот определенная фигурация, которая позволяет сделать из Делеза пример (для) теоретизирования.
Последнее, впрочем, оказывается не слишком впечатляющим. Избыток теории Жижека слишком громко заявляет о себе, сталкиваясь с неподатливым материалом. Чисто количественно: только половина книги более или менее жестко привязана к «Делезу», тогда как вторая половина рассматривает «последствия» – уже не столько действий или текста Делеза, сколько определенной структурации «делезообразного» – субъекта знания, эстетики и политики. Влюбленность Жижека в собственную теоретическую ритурнель настолько велика, что по отношению ко всем остальным он готов на грубости и просто непристойность. Единственный вариант отношения к Делезу – это извращение его собственного историко-философского метода, известного как метафорический enculage, гомосексуальный половой акт, порождающий неизвестного самому автору-педерасту ребенка – монструозную зверушку беспорочного философского деторождения. Неприязнь Делеза к Гегелю и Диалектике стала для Жижека вызовом, на который можно ответить только одним способом – обратить против Делеза его собственное оружие и представить его в качестве криптогегельянца, причем не слишком впечатляющего образца. Только после такой процедуры известное высказывание Фуко («однажды этот век будет считаться делезовским») преобразуется в «однажды этот век будет считаться эмпириомонистским».
Конкретные шаги дегваттаризации Делеза поучительны, однако, двигаясь в этом направлении, Жижек как обычно самое интересное оставляет для отступлений, дигрессий. Например, здесь получает развитие его часто повторяющийся сюжет о тройном значении «Реального» или о радикальном «зазоре», gap'e , который структурирует онтологию и открытие которого является заслугой Гегеля, отказавшегося от натурально-фетишистского представления «вещи в себе». Столь же интересно было бы посмотреть на то, как Жижек разовьет тему «избыточности» «догматических конструкций», проблематичных для самого существования когнитивного аппарата – впрочем, это уже тема его последней книги, «Parallax View». По большей же части все эти интервенции поглощаются несколько утомительными процедурами «taking Deleuze from behind», в результате которых стирается сколько-нибудь внятное отличие Делеза от Гегеля, Лакана и Хичкока.
В то же время, в текстуальной машине перелицовки Делеза обнаруживается несколько проблем. Главный пункт, на котором строится вся дегваттаризация, состоит в том, что Жижек выписывает радикальную делезовскую проблему именно в тех терминах и в той перспективе, которые не позволяют определить место «Капитализма и шизофрении». Собственно делезовская онтология уровня «Логики смысла» и «Различия и повтора» сводится к противопоставлению мира тел и событий, то есть реального и виртуального, причины и квазипричины, физики и становления. Выписанный в одной из глав «Логики смысла» трансцендентальный генезис неизбежно сталкивается с реальным генезисом, не позволяя сделать вывод о том или ином онтологическом первенстве. В конечном счете, Жижек справедливо считает такую схематику аналогичной той, что была разработана в немецкой классике, то есть оппозиции трансцендентальной философии и философии природы. При такой постановке вопроса нет другого выхода, кроме Гегеля. Но Жижек (зло)намеренно ошибается, предполагая, что при переходе к «Анти-Эдипу» Делез всего лишь опрокинул свою онтологическую схематику, заменив трансцендентальный генезис реальным, но построенным по (и внутри) той же самой модели. Иначе говоря, Жижек специально (хотя и неявно) подводит к мысли, что бестелесное становление «элегантно превращается» в область реального генезиса, описанного в «Капитализме и шизофрении», но не допускает мысль, что в результате такой процедуры меняется не только направление движения в схеме, но и сама схема в целом. Иначе говоря, не ставится вопроса о том, можно ли составить удачную таблицу соответствий между онтологией «Логики смысла» и онтологией «Капитализма и шизофрении». Жижек предполагает, что да, можно, причем вполне однозначно. Дело даже не в том, что при этом он опускает описание того, как «поверхностная онтология» преобразуется, погружаясь в пространство «реального генезиса», а в том, что в результате проблема перехода к «Анти-Эдипу» оказывается вообще непрозрачной. Достаточно было написать «Логику смысла» наоборот или «в зеркале» – то есть в «Зазеркалье» – однако «Анти-Эдип» явно не тянет на «Логику смысла», написанную самой Алисой, а не Кэрроллом.
Посчитав проблему нерешенной именно в силу ее несформулированности, Жижек создает множество вариантов приведения Делеза к гегелевскому знаменателю, в том числе за счет диалектического материализма. Действительно, между логикой смысла с ее любовью к сингулярностям, диалектическим материализмом и современной синергетикой слишком много общего. Например, аттракторы могут считаться лучшим примером делезовского «виртуального». Вместо того, чтобы задаться вопросом о том, что же их все-таки разделяет, что не дает Делезу превратиться в натурфилософа (причем именно там, где он в такового, по мысли Жижека, превращается), Жижек строит свой стандартный ассоциативный аттракцион. Делез то оказывается последователем Богданова, против которого выступает призрак диаматчика, то неверно понимает логику негативности, то просто демонстрирует неспособность прочесть Гегеля. Так или иначе, он самый близкий родственник Гегеля, только не знает об этом. Иначе говоря, Делез – это пример стандартного невроза: невротик заявляет о том, что он ребенок «других родителей» – иногда более родовитых, а иногда наоборот. Делез принудительно возвращается «домой», в его немецкий дом, где его никто никогда не ждал. Родители были бы в еще большем недоумении от их отпрыска, чем сам отпрыск.
Левак
Эта картина возвращения блудного сына нарушается радикальной невозможностью описать все «последствия» Делеза, обращаясь только лишь к «нуклеарному», нарциссическому Делезу, занимающемуся переворачиваниями своей собственной онтологии в полном неведении о верном, то есть диалектическом, способе этого самого переворачивания. Собственно, получив Делеза в дистиллированном виде, то есть Делеза, который преимущественно занимается бестелесными аффектами и событиями, Жижек никогда уже не задается вопросом, почему у такого Делеза больше каких-то определенных последствий и меньше каких-то других. То есть почему самому Жижеку удается достичь достаточно когерентного изложения «последствий» в сфере «искусства», но не удается кое-что другое. Иными словами, Жижек не ставит вопроса о продуктивности предварительного очищения/редукции Делеза, как не спрашивает он и о том, что именно руководит логикой выделения «последствий» (имеются в виду, естественно, теоретически развиваемые последствия, способные концентрировать эффекты гетерогенных культурных и эпистемологических контекстов).
Жижек нигде не объясняет, почему последствия выписаны в схеме триединства (с одним радикальным отклонением, о котором далее), то есть почему это могут быть последствия (1) научного рода, (2) эстетического и (3) политического. Что именно в самом Делезе трансцендентально-реального синтеза предполагает это классическое членение, в котором критический разум выделяет внутри самого себя места отдельным критикам – так что в результате только у критики разума/познания остается первое место (хотя бы в порядке хронологии, а не телеологии) – заметим, что в главке о «научных последствиях» Жижек неявно указывает на гомологичность кантианской проблематики «лишних», «догматических» конструкций и проблем современных когнитивных исследований, – тогда как эстетика смещается на второе место, а на месте практического разума обнаруживается его расширенная политическая версия?
Движение по призрачным «трем критикам» связано с конечным кульбитом – то есть возвращением Гваттари и неполной дегваттаризацией. После рассмотрения когнитивных последствий, в которых Делез обнаруживает свое преимущество перед современной англо-американской философией сознания (хотя его преимущество и не слишком велико, в силу того, что Делез никак не может понять сущности субъекта), Жижек достигает теоретического апогея – счастливого возвращения Делеза к самому себе после «шашней» с Гваттари. Это возвращение маркируется несуществующим периодом – «поздним Делезом» «серьезных» академических «штудий»: здесь мы встречаем Делеза-киноведа, Делеза-искусствоведа, Делеза-литературного критика. Лепота. Жижек чувствует, что удача ему улыбнулась – все указывает на то, что «ход налево», к Гваттари, был если не случайностью, то чем-то малозначимым для «пространства имманентности» самого Делеза. После такого итога уже можно и не говорить о том, что же сделал Делез в своих работах о кино – Жижеку достаточно вспомнить о кино то, что знает он сам, повторив несколько экскурсов в области «Психоза» и «Головокружения». Нет ничего более близкого Делезу, чем теория « gaze », объективного глазения, отсоединенного от субъекта, в котором последний узнает себя в качестве внешнего и несостоявшегося. И в этом кульминационном моменте триумфа подлинного Делеза Жижеку следовало бы закончить, подписав – «задача выполнена». Однако его почему-то потянуло в политику – и в результате последняя глава определена как исследование «политических» последствий. И именно из-за нее вся книга пошла насмарку.
Не только потому, что эта глава производит наименьшее впечатление силой своей аргументации. Главное – обращение к политическому Делезу требует контрабандного введения Гваттари, поскольку определить политические импликации (квазистоической) теории событий не представляется возможным. В известном смысле, событие вообще не предполагает никакой праксеологии, потому что у него нет «настоящего времени». Безо всяких оговорок и уточнений Жижек отпускает Делеза налево, но результаты реабилитированного под сурдинку брака признаются Жижеком как бы по умолчанию, без повторного анализа. Иными словами, Жижек не удосуживается вполне логичным вопросом – а почему, собственно, именно политические последствия Делеза требуют реабилитации Гваттари, почему для того, чтобы была «политика Делеза», нужен его соавтор?
Даешь революцию, но культурно
Только политэкономия Делеза-Гваттари дает достаточно четкие политические последствия. Желая поставить их под вопрос, Жижек демонстрирует несколько не слишком удачных параллелей. В частности, критика делезовской концепции фашизма ведется так, что в итоге тезис Делеза/Гваттари о том, что «массы не были обмануты», что фашизм не является всего лишь «идеологической уверткой», просто подтверждается – поскольку Жижек не может отказаться от теории фашизма как обсценного удовольствия. Еще более значимо отслеживание «вторичных последствий» присвоения «Капитализма и шизофрении» современными левыми – например в форме теорий Хардта-Негри. Жижек стремится подчеркнуть, что вся делезообразная критика капитализма имманентно приводит к поддержанию «все более развитого» капитализма. Раскодирование потоков является собственной логикой капитализма (как будто бы именно это не утверждали Делез и Гваттари), поэтому ставка на раскодирование (а никакой другой ставки быть не может) просто иррелевантна левому дискурсу – чем больше мы будем заниматься раскодированием потоков (например финансовых, информационных, энергетических, либидинальных), тем больше капитализм будет капиталистическим, тем больше он будет терять свои архаические черты (например, связанные с «деспотическим государством»). Иначе говоря, «левое по Делезу» является мотором капитализма, а не машиной его трансформации.
Противоречивость этого «левого» – причем это единственное на сегодняшний день радикальное левое – Жижек демонстрирует как на примерах реализации стратегий, поддерживаемых теориями «множества» Хардта/Негри, так и обращаясь к конкретным политическим программам и риторикам таких деятелей, как субкомманданте Маркос. Радикальные левые, собрав в себе всех «антикапиталистов», давно не являются радикальными. Они выступают за все что угодно, но практически забыли о капитализме и проблеме борьбы ним. Капитализм стал антитеоретическим фетишем, с которым невозможно бороться, именно потому, что он всегда на виду. Левые могут выступать за экологию, локальные сообщества, возрождение частных смыслов, за борьбу против американской гегемонии и т.п., но главное – они отказываются «взять власть». Жижек справедливо указывает на то, что «множество» по самому своему существу не может быть «во власти». В таком случае, теория сопротивления через множество имеет внутреннее ограничение, поскольку левым теоретикам не удалось показать того, что многочисленные трансформации современного общества как-то трансформируют саму структуру власти капитала. Последний остается единственным гегемоном, несмотря на все преобразования. Попытка левых «не идти в лобовую атаку» результирует в весьма противоречивых эффектах. Например, апелляция к локальным сообществам самоуправления может быть вписана как в эмансипаторские проекты, так и в проекты откровенно фашистского толка, предполагающие принудительную сегрегацию на основе неких эссенциальных определений. Точно так же и заявления Маркоса в стиле «я – никто, через меня говорит любой угнетенный человек этого мира», радикально меняют свою модальность, если приложить их к собственно политической сфере, которая предполагает борьбу за власть, – не секрет, что именно для фашистских лидеров было характерным исключать себя из собственной речи, превращаясь в огромное «ухо», которое способно уловить желания и чаяния своего народа безо всяких посредников – как то эксперты или бюрократический аппарат.
Иными словами, «левое по Делезу/Гваттари» (отмечу еще раз, что Жижек оставил проблему дегваттаризации Делеза именно в момент его политизации) приводит либо к прогрессу самого капитализма (участники социального форума все больше перемещаются в Давос, а самые крупные капиталисты сейчас – это либертарианские «коммунисты», проповедующие цифровой капитализм), либо к повторным «территориализациям», фрагментации ландшафта, которая никоим образом не меняет глобальную географию. В такой ситуации фиаско левых (вернее, фиаско интенции левых) подписано на двух сторонах одного и того же «листа»: путем успешного присвоения – и, главное, реализации – их дискурса в капиталистической реальности и путем дезавуирования «несогласных» левых, которые готовы быть всем кем угодно, только не эффективными капиталистами. Таким образом, левые, которые еще имеют какую-то фоновую политэкономию, либо становятся наиболее капиталистами, либо деградируют к докапиталистическим территориализациям (в этом смысле одной из форм такой деградации может быть признана и определенная часть истории Советского Союза).
Выйти из подобной ситуации совсем непросто – что косвенно как раз и подтверждает Жижек. Единственная альтернатива логики левой политэкономии – это логика революции, которую Жижек разделяет с Бадью. Иными словами, Марксу (Делезу/Гваттари) противостоит Ленин и Мао. Ирония выводов Жижека заключается в том, что даже самое поверхностное рассмотрение вопроса революции приводит именно к тем выводам, которые были сделаны по следам Делеза, а именно к выводу о «погружении» самой логики революции в капиталистическую реальность. Последняя оказывается «больше» революции. Собственно, теория Революции как события (Бадью) еще ничего не решает относительно «эволюции революции», каковая как раз и оставляет наибольшее количество вопросов. Проблема революции в том, что она, однажды начавшись, никогда не должна кончаться. Русская революция кончается слишком рано – и нам даже не нужно точно определять, когда именно – собственно в момент Октября, в период коллективизации, во времена чисток или, быть может, в конце Перестройки. В любом случае единственным ответом на эволюцию революции является революция революции, то есть маоизм, то бишь культурная революция. Последняя предполагает постоянную работу над изменением самой социальной текстуры. Но здесь-то Жижек и приходит к тому выводу, что реализация культурной революции уже проведена – такой революцией как раз и является прогрессирующий капитализм, тогда как собственно китайская культурная революция оказалась лишь пустым перевертыванием традиционного уклада – перевертыванием хотя и впечатляющим, но поверхностным, театральным. То есть, даже революционный ответ на политэкономию приводит к тому же выводу, что и раньше – левый дискурс деструктурирован именно потому, что капитализм давно левее левого.
Такой вывод обеспечен несколькими посылками – прежде всего, теорией революции как события, от которой отправляется Жижек. Радикальная проблема левого дискурса состоит именно в том, что строгое политэкономическое представление о революции оказывается невозможным – хотя бы потому, что сама политэкономия является теорией уникальной формации, ставшей универсальной, но не в результате череды закономерных и типовых «трансформаций», тогда как революция как «желание» оказывается неизбежно вписанной в наличный политический контекст. Отказ от революции, в свою очередь, ведет к реформизму, то есть к устранению самой позиции левых. Отсюда ясно, что критике должна быть подвергнута сама позиция «левого» как политической теории/платформы, совмещающей объективистские составляющие с субъективной верой или с «призванием». Именно трансформация «субъекта левого» могла бы позволить не выписывать трансформацию революции в качестве предательства по отношению к ней и одновременно не возвращаться к маргинальным логикам революционного «множества».
Дата публикации: 07.10.06
Проект: Планка
© Кралечкин Д. 2006